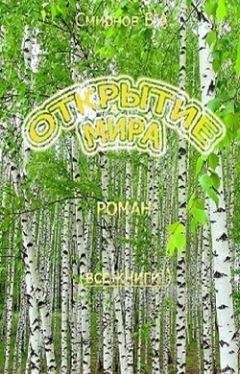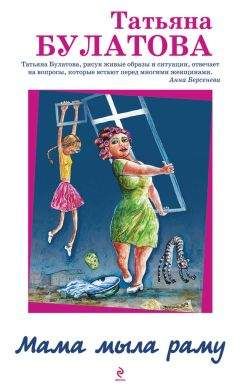К Аладьину как-то любопытно-несмело присоединился Апраксеин Федор и, наклонясь к книгам, закрыл своей бородищей сразу с десяток.
— Сроду, со школы, кажись, в руках не держал, — признался он застенчиво, не похожий на себя. — Дай-кось какую поменьше, попробую подержать… почитаю.
— Пожалуйста, пожалуйста! — Подошла поспешно к шкафу Татьяна Петровна, и пенсне, опять повиснув на шнурке, запрыгало у ней на груди. — Что же вам дать почитать? Хотите, по истории?
— Таня, дайте товарищу Чехова, «В овраге»! — закричал Григорий Евгеньевич и схватился за чистые, незаполненные читательские карточки. — Плотника Костыля пускай послушает: жизнь долгая — будет еще и хорошее и плохое, всего будет! Велика матушка Россия! — кричал и улыбался Григорий Евгеньевич.
Шурка все это замечал и не понимал, потому что видел еще другое: вздернутый, отчаянный носик, бисерные капельки пота на жаркой, повернутой к нему щеке и на червонных, выбившихся из-под платка, растрепанных волосах около маленьких горящих ушей; в капельках отражался свет лампы, и они мигали алмазно-голубыми звездочками, — так бы и смахнул их в ладошку на память; он видел половинку зеленого кошачьего глаза, который определенно косил в его сторону.
А возле книжного шкафа уже образовалась порядочная очередь.
Мужики сняли шапки, перестали курить. Они сконфуженно оглядывались на мамок и ободряли друг друга шутливыми возгласами:
— Господи, просто, в чужую кладь пусти… подсоби ума нагрести и вынести!
— Больше грамотных — меньше дураков…
— Э-э, сват, мы в книжки не глядим, а пряники писаные едим!
Бабы покатывались со смеху.
— Нет, вы поглядите, милые, на них, очумелых читальщиков! Как ребятишки малые тянутся к соске. Не подавитесь! Не захлебнитесь! — дразнили насмешливо довольные мамки.
Они-то уже брали за весну книжки, прятали за божницу, на полку, подальше от ребятни, и, не найдя свободной минуты и просто забыв, потом вспомнив, возвращали книги учительнице и учителю непрочитанными.
— Грамотеи, книгоеды, а кто пахать завтра в ноле поедет?
— Азбука — наука не токо вам, ребятам, на свежие мозги молодые — мука!
— Неправда! — загалдели вокруг Шурки в кути, и он очнулся.
— Смотри, мужики-то, книжки берут! — удивленно-радостно шепнул он Растрепе на ушко, как будто они не ссорились, не были врагами. — Да самые толстенные выбирают, хитрюги, чтобы на дольше хватило, — одобрительно и завистливо вздохнул он.
— Не прочитать, — охотно, поспешно ответила Катька. — Картинки поглядят и обратно книжки принесут, я знаю.
— Горький… Ишь ты, какое, ну, прозвище! — дивился гость из Сломлина, нукало, листая тонкую, как тетрадка, книжечку в густо-малиновом, упругом одеянии.
— Фамилья горькая, а сочиняет, поди, сладко. Врут они все, книги-то, потешают народ, — отозвался привычно из-за стола кто-то, не пожелавший идти к раскрытым книжным полкам.
— Нет, брат, — живо возразил Аладьин, перебирая сокровища, не зная, на чем остановиться, словно не прочь взять шкаф в охапку и унести домой со всеми его шестью передвижными полками, набитыми книгами. — Нет, брат, — повторил он, — есть которые и не врут, много таких… большинство. Не потешают, бередят сердце. Этот Максим Горький оправдывает свою фамилию. Его книжки, мало сказать, горькие — со-ле-ные, разъедают глаза, чтобы лучше видели жизнь, и в нос бросаются, как свежий хрен… И все в красных обертках. Чуешь?
— Вы говорите про «знаньевские» издания рассказов Горького? — вмешался Григорий Евгеньевич, оживленно счастливый, как никогда. — Есть и в зеленых обложках, синих, не важно.
— Красных больше, — настаивал на своем дяденька Никита. — И очень важно, что обертки красные: зовут!..
Все немного стихли, точно прислушиваясь, — зовут их или не зовут красные книжки Максима Горького. Потом снова заговорили.
И этот, казалось, пустяковый разговор про обложки, фамилии, эти насмешливые возгласы мамок и шутливоодобрительные промежду собой толки застенчиво-сконфуженных мужиков, и эта вдруг установившаяся на какую-то минуту торжественная тишина у книжного шкафа, и, главное, всамделишная очередь за книгами, эти набожно снятые с голов картузы и шапки, потушенные, спрятанные в рукав цигарки и трубки — все-все было невиданно значительным, просто невозможным дивом из див-чудес, самым дорогим для Шурки и, может быть, и для Катьки.
— Слушай, — зажегся внезапно неслыханной придумкой Шурка, — давай и мы с тобой возьмем для батей по книжечке? Романы! И потихоньку, украдкой почитаем, а? Терпенья нет посмотреть, что за книги печатают для взрослых… Девки говорят, больно интересны романы… про любовь.
Катька покраснела.
— Татьяна Петровна не даст. Я пробовала.
— Какая ты непонятливая! Не нам — батям книжки! — втолковывал торопливо змей-соблазнитель, Кишка долговязая. — Они велели взять по книжечке, наши бати. Эвон тятька головой мне кивает, приказывает. Самому-то ему, без ног, неловко подползти к шкафу, затолкают… И дяде Осе одному скучно в шалаше, во мху… — Шурка запнулся, но тут же вышел из положения: — Я нечаянно сказал, ничего не знаю, ей-богу! Нету твоего отца в библиотеке, и все тут… А ему смерть как хочется почитать… Ну, живо! За мной! Не зевай!
Они выбрались бочком-бочком из кути в горницу, стали в очередь за Устином Павлычем, который был последним в хвосте у книжного шкафа. А Петух, Олег и другие ребята не расслышали Шуркиной придумки, сами не догадались. И напрасно.
Им повезло, негодным выдумщикам, обманщикам. Книги они получили толстые, для взрослых, в мраморнокрепких, почти деревянных переплетах с кожаными корешками, тисненными золотом. Татьяна Петровна нынче была сама не своя, такая добрая, поверила, что они берут для родителей — отцы строго-настрого наказывали без романов и домой не возвращаться.
— Уж так-таки и не возвращаться? — посмеялась, пошутила учительница (Татьяна Петровна шутила! Такого с ней, кажется, никогда не случалось). — Пожалуйста, возвращайтесь с романами. Да научитесь правильно выговаривать: роман, а не роман… И спать, спать у меня, марш!
Григорий Евгеньевич, светясь пуще прежнего, заполнил быстро, красиво читательские карточки-формуляры на Осипа Ивановича Тюкина и Николая Александровича Соколова. Спросил год рождения ихних батек — такой порядок, надобно знать библиотеке возраст читающих. Ребята, конечно, не слыхивали, они и свой-то год рождения знали плохо, путались. Обещались спросить дома и непременно сказать другой раз.
Слава богу, Григорий Евгеньевич словно не заметил Шуркиного отца в читальне, иначе было бы плохо, совсем-совсем нехорошо. А возможно, притворился, что не видит, не окликнул батю, не спросил его год рождения и что ему дать почитать, тогда совсем-совсем отлично, замечательно.
На великих-превеликих радостях Шурка и Катька даже не заглянули в книжки, что получили их стараниями отцы. Конечно, самые завлекательные романы выбрала Татьяна Петровна, спасибо, обязательно про любовь. Они были ужасно счастливы, что держали в руках таинственные тома, каких не полагается школьникам и понюхать, а они, сообразительные Кишка и Растрепа, сунут запросто нос в романы и все-все будут знать… Ну, покривили душой, обманули немножко учителей, негоже, так делать, они больше не станут, только разик. Да и не обманули, а… И ведь не украли, прочитают и принесут книжки обратно в библиотеку, целехонькие, обернутые в бумагу, чтобы мраморные корки не портились. И, может стать, ихние батьки действительно поглядят в романы хоть одним глазом. А главное, они, Шурка и Катька, совсем-совсем взрослые, пора им знать все на свете.
Была и другая причина, пожалуй, дороже романов про любовь, почему они, возвратясь в куть, не толкались и не щипались больше с друзьями и недругами, а держались незаметно за руки, как Григорий Евгеньевич и Татьяна Петровна недавно, стоя у окна, довольные.
— Нонче зорька-баловница поздно спать кладет, да рано будит, — позевал во весь рот Устин Павлыч и ушел с Олегом ужинать.
И мамки побежали поскорей к себе домой с мужьями, которых удалось с грехом пополам увести из читальни. Григорий Евгеньевич и Татьяна Петровна, закончив выдачу книг, собрав с долгого стола газеты, закрыли шкаф на ключик и, весело-громко попрощавшись, оживленные, пошли к себе в школу. С ними отправились восвояси дальние: сломлинский депутат и Капаруля; Водяному надо было еще переезжать на лодке Волгу. Но большинство мужиков разошлись не сразу, пообещав Григорию Евгеньевичу, что с куревом будут осторожны, огня не заронят, лампу-«молнию» потушат и, уходя, притворят за собой дверь в крыльце на щеколду.
Оставшись одни, мужики, вспомнив, посмеялись над крутовским столяром-депутатом, он неделю как не заглядывал в читальню.
— «Гляди-и-и!», «К чему?», «Сознательность!» — передразнивал любимые выражения Пашкиного родителя Апраксеин Федор, ухмыляясь в бороду. — Эвот она, сознательность, пока не коснулось дело собственного пуза: не замай*, мое!