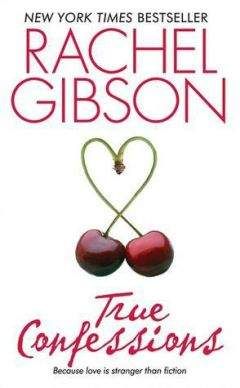— Когда ты уезжаешь? — с трепетом спросил я.
— Послезавтра. Ой, нет, завтра.
— А почему ты сказала послезавтра?
— Я забыла, — сказала она просто.
Мой приговор скрепился печатью. Я снова поцеловал ее, впился в ее поблекшие губы, и все звуки моря, звуки Аттики, шумно и грозно накатывались на меня.
— Прощай, Титина! — Это было уже у входа в ее отель.
— До свидания, Дионис. Маленький мой, милый.
Она была так добра, так ласкова.
Но я ничего не сказал ей вслед, потому что уже понимал: это глупо, по-идиотски глупо.
По дороге домой было пыльно, все башмаки у меня разбухли.
Когда я вошел в гостиную, то увидел тетю Каллиопу. Она приехала из Парижа.
— Ну вот и наш Дионис! — вскричала тетя Каллиопа. — Подумать только, почти уже взрослый! Мужчина!
Подошла, обняла торопливо и заговорила о политике.
Мы никогда особенно не любили тетю Каллиопу: она давала нам сочинения и диктанты. Но братья ее, мои дяди, отчего-то любили свою сестру и постоянно спорили с ней о политике, обсуждая какой-нибудь скучный политический вопрос. Спорили до утра, до умопомрачения.
— Нет, Катастрофа, — кричала тетя Каллиопа, и голос ее достиг пределов возможного, — Катастрофа — это результат политической близорукости, аполитичности масс в одной из самых отсталых стран мира!
Тут в ответ закричал дядя Стефо, вице-президент правления нашего Банка:
— Да вам только волю дай, прогрессистам, интеллигенции, и нам всем, слышите, всем порядочным, честным людям ничего не останется, как только резать глотки, перерезать себе горло! — Тут его голос стал просто бычьим.
— Ну при чем тут это! Мы говорим о Катастрофе.
— Это всё генералы! Они виноваты! — визжал дядя Константин.
— Нет! Монархисты! Всё эти монархисты! — размахивала кулаками тетя Каллиопа.
— А что, по-вашему, лучше республиканцы?! Да они выдохлись, выродились, полный тупик.
— Не смейте трогать республиканцев, — бросала вызов всем и каждому тетя Урания.
— Просто монархисты еще себя не проявили как следует.
Тетя Каллиопа сардонически захохотала.
— Уж лучше сам дьявол, — высказал мысль Константин.
Тетя Урания тотчас насупила брови.
— И все же ты должен признать, Коста, — строгим, обычным своим примиренческим голосом проговорила она, — когда проливается кровь, наша бедная Греция возрождается.
Тетя Талия, с тихим, заплаканным лицом, села за фортепьяно и начала играть. Я вспомнил эту мелодию. Сладкая, точно патока, ласково-приторная музыка, извлекаемая наугад тонкими пальцами, потекла, потекла, как клей, слилась с голосами.
А потом опять заговорила тетя Каллиопа:
— Угадайте, кого я видела.
Никто не угадывал.
— Представляете, эту мелочь, помните, Титину Ставриди, о которой вы некогда все так заботились.
— И что же, живет в Афинах? — спросила тетя Урания, хотя могла бы не спрашивать: так ли уж это важно?
— Ошибаетесь. Я видела ее в Париже — сталкивались, — и тетя Каллиопа вдруг усмехнулась. — Нечего сказать, хороша штучка. Шлюха!
По ее лицу было видно, что тетя Урания хотела ей что-то возразить и брала все земные грехи на себя, а тетя Талия между тем заиграла еще громче. И она потекла, потекла эта музыка, мимо дядей и дальше, за порог комнаты, хлынула густо по коридорам, проходам нашего смятого, сжатого в ком жилища, отдававшего запахом сдобного теста, pasta. Несносный Шуман преследовал меня неотвязно, гнал в комнату, дальше и дальше.
А за окном облитая лунным светом застыла, как лед, сирень. И белая, млечная музыка насквозь пропыленной ночи застыла тоже — покрыла льдом сады и парки. Я высунулся из окна, откинул голову и ждал удара — ножом в горло, — но его не случилось, нет… А тетя Талия по-прежнему играла Шумана, и тут я понял, что горло мое, эта жестокая выя, это и есть тот певучий меч, тот застывший удар.
Клэй[33]
Когда ему было пять лет, мальчишки спрашивали, почему это мама так его назвала. А он не знал. И стал задумываться. Он о многом задумывался, особенно интересно было ободрать кору с дерева или распотрошить цветок, проникнуть в самое сердце тайны. Он и сам любил задавать вопросы, но чаще всего напрасно ожидал ответа — его мать не в силах была прервать ход своих мыслей. Миссис Скеррит говаривала:
— Если бы твой отец не умер он бы и теперь выносил мусор ведро такое тяжелое каково наклоняться при моей-то толщине да одышке но ты ведь Клэй я знаю поможешь мамочке когда подрастешь и станешь сильным только до этого еще ох как далеко.
Клэй в свою очередь не отвечал ей. Да и что тут скажешь?
Миссис Скеррит говорила:
— Не люблю ни у кого ничего просить но мало ли конечно я и не жду чтоб мужчины уступали мне место в трамвае пока ноги держат но кое-что должен делать все же мужчина взять например миссис Перл чего ей ждать от мужа-диабетика.
Клэй грезил под звук материнских речей, сверлящих завитушки деревянной резьбы — это было отцовское хобби: всякие там бра, даже стол и дверная притолока украшены были изобильной резьбой. Бывало, голос матери продолжал пилить и сверлить, а Клэй отламывал темные деревянные завитушки и потом прятал их под домом. В результате чего там хранилось полным-полно резных украшений.
Или, мечтая, бродил он по дорожкам сада за сломанной оградой, под башмаками у него хрустели черепки цветочных горшков, по ногам хлестали тугие стебли, тяжкий дух аспарагуса наполнял легкие. Он бесцельно сбегал к гавани, к свежему запаху морского латука, к каменному парапету, испещренному белым пометом чаек. Их дом кренился к гавани, но все не падал, потому что однажды какие-то люди пришли и поставили подпорки. Но так или иначе, он стоял накренившись.
Клэй мечтал. Он часто рассматривал родительскую свадебную фотографию. Его детское воображение было приковано к этому групповому снимку. Там был отец — с толстыми, как деревянные чурбаны, ляжками в узких брюках (совсем не похоже на папочку, какого он помнил Неизлечимым, в постели), был там влиятельный мистер Статчберри, были тетя Ада и Нелли Уотсон (которая уже умерла), был еще какой-то человек, который погиб на войне. Но самое главное, там была мамочка — в струящийся шелковый подол ее платья, в застывшие кружева, под которыми таилось его начало, так и тянуло зарыться лицом. И туфелька. Он был зачарован этой беленькой туфлей. Иногда белая ладья ее туфельки отчаливала от берегов застывшего времени в моря его лучистых грез и баюкала их на волнах.
Как-то миссис Скеррит, войдя в комнату, застала его за этим занятием, хотя трудно сказать, заметила ли она его вообще — она смотрела на свое изображение.
— Ах сыночек, — сказала она. — Все на свете так грустно кончается.
Частенько у нее бывал такой вид, будто она вот-вот заплачет, а волосы еще больше становились похожи на растрепанные космы серой пеньки, а на ветру — на развевающуюся рвань трухлявого кухонного полотенца.
В тот день, когда она застала Клэя за созерцанием карточки, он дерзнул спросить у нее, с трудом выдавливая из себя слова:
— Почему это меня так зовут, мама: Клэй — глина, прах?
К этому времени ему было уже семь лет, и мальчишки приставали к нему пуще прежнего, да еще и колотили его (им было страшно, что он не такой, как они).
Мать объяснила:
— Постой-ка сейчас подумаю папа хотел назвать тебя Парсифаль в честь мистера Статчберри но я ни в какую мало ли чего хочется например имя нужно выбрать имя которое было бы действительно его например керамика сказала я так хотела этим заняться если б я нашла какого-нибудь джентльмена или леди разве угадаешь я могла бы стать художницей но не стала потому что не было времени всегда столько дела всегда люди и люди со всеми нужно поговорить потом папа был неизлечимо болен и я не могла заняться керамикой только об этом и думала наверно поэтому так тебя и звать Клэй.
Она пошла на заднее крыльцо и вылила чайник в заросли венерина волоса, буйно разросшегося от влаги.
А мальчишки продолжали колотить Клэя и спрашивать, почему это его так зовут, и он не мог ничего сказать им — что тут скажешь, даже если и знаешь.
Порой дело принимало и вовсе дрянной оборот — как-то раз они погнались за ним, вооружившись старой женской туфлей. Он помчался от них, словно ветер в листве, но в конце концов сдал, они нагнали его на углу Зеленой улицы, на которой он родился и вырос, и каблук этой старой, изношенной туфли запомнился ему навсегда.
В саду покосившегося дома, среди пожелтелого мохнатого аспарагуса за решеткой, зиявшей проломами, он всплакнул о своей горькой участи — быть не как все. Вытер нос и глаза. Солнце, встававшее над гаванью, заливало спокойным светом этот живой зеленый мир, существовавший как бы совсем отдельно от мира свадебной туфельки — ладьи его грез.
Но он не взошел на ее борт. По крайней мере в тот раз. Еще не зажил его собственный каркас.