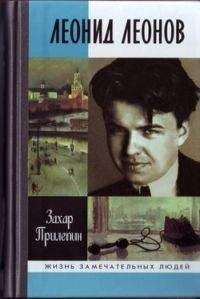Соскочив с саней, под неодобрительным взором извозчика Векшин приложил горсть снега к разгоряченному лбу и лишь тут ощутил, как сильно прохватило его на сквозняке, пока возился с медведем. Начинался жаркий озноб, с затылка наползал знакомый простудный гнет, сердце билось толчками, как отравленное… Вдруг Митька передумал: чтобы зря Маше боль свою не выдавать, чтоб раньше сроку не тешилась, разумнее было по горячему следу, пока не ушел от Пчхова, у самого Агея проверить догадку и в первую очередь выяснить, как оно могло случиться, столь поразительное совпадение, что в громадном столичном городе Дмитрий Векшин попал с фомкой в гости именно к лучшему своему дружку Арташезу?
Толкая ногой пчховскую дверь, Митька больно и надрывно закашлялся.
Как и следовало ожидать, Агея на месте уже не оказалось, да Митька и сам тотчас забыл свое намеренье. Пчхова он застал в жарком споре с Фирсовым: впрочем, горячился главным образом первый, потому что речь шла о важнейшем для него предмете, а второй лишь подыгрывал ему восклицаньями согласия, удовольствия иди сомненья. Карандаш его, будто и не ночь, мелким бисером устилал очередную страничку записной книжки. И не то было поразительно, что до утра затянулась беседа, а то, что Пчхова хватило на нее при столь требовательном партнере.
— Хватит с тебя, сочинитель. Мало тебе Благуши, за самого Пчхова принялся! — неприятно для обоих пошутил Векшин; прямо в шубе он присел у печки, стремясь скорее добраться до тепла. — Собачий холод на дворе, подкинь еще поленце, мастер жизни!.. Вдоволь, поди, наговорился с Агейкой?.. подходящий для тебя оказался товар?
— В смеси с другими пройдет… — только и буркнул Фирсов, боясь утратить кончик порвавшейся мысли; впервые присутствие Векшина стесняло его.
Спор безнадежно обрывался, Фирсов с досадой прикрыл свою ловушку. Не поднимаясь с места, Пчхов прощупал вошедшего хмурым взглядом.
— Не в гостях ли засиделся, Митя?
— Так, важное совещание одно… — и, махнув рукой, зашелся в приступе кашля.
— Шатаешься, видать с выпивкой совещание. Снилось мне, будто подстрелили Митю, поберегись: у меня сон вещий!.. Ишь как треплет тебя… не угодно ли, лекарствия пузырек составлю? Как рукой сымет…
— Все нутро кашлем выворачивает, — пожаловался между тем Векшин, прижимаясь спиной к остывающей печной кладке. — Поди на каустике лекарство свое составляешь, самоварный лекарь!.. нет, это от табаку у меня.
Его знобило, он заметно путался в словах. Мельком помянув про бывшего приятеля, Арташеза, тоже любителя полечить домашним средством, он без очевидной связи перескочил к Маньке Вьюге, чтобы от нее распространиться о пропойном доломановском братце, не известном никому из его собеседников. И по тому, как вникал Пчхов в его скачущие мысли, не прервав ни разу, а только хмыкал, покачивая головой с видимым участием, — Фирсов ухватил наконец в Пчхове то главное, чего ему не хватало для последнего наглядного портретного сходства.
«Весь мир был для Пчхова театром искреннего и слитного действа, и он один, зачарованный зритель, глядел из своей мастерской, как из ложи, на происходившее перед ним зрелище жизни… Глядел и все не мог наглядеться на нескончаемое повторенье одной и той же темы, сплетение обманутых любвей, неутоленных вожделений, молодостей на взлете и в падениях. Все ему было там до самозабвенья интересно, как путнику на берегу моря, где то и дело из голубой вечности бежит, бежит волна, чтоб донести свой клочок пены, шевельнуть гальку и растаять на полувздохе… — Фирсов мысленно зачеркнул последние три морских строки, чтобы сохранить единую, театральную фактуру образа. — И, несмотря на возраст, так было ему все интересно, что и самое плохое стремился досмотреть до конца».
Вдруг Пчхову надоело тратить время на шутливую перебранку с Векшиным.
— К слову, вот ты обронил мне давеча, Федор Федорыч, — продолжил он прерванный векшинским вторженьем спор, — что затопчут, дескать, нас враги жизни, если с прогрессом в ногу не идти. А я все жду, не взбунтовались бы когда-нибудь твои людишечки: довольно, скажут, нам клетку этой самой цивилизации для себя сооружать все тесней да строже. Правда твоя, позволяет нам наука в бездну заглянуть, да она же и скинуть нас может… да еще в какую бездну! Вот я тебе притчу обрисую, ее и тебе полезно послушать, Митя!.. отец Агафодор, уединенник мой, у которого я душу-то во младые лета спасал, ночью, у полусмертиого ложа — моего сидя, сказывал… Когда у Адама с Евой случилась та самая промашка с яблочком, то и погнали их из райского сада помелом. Присели они под колючею оградою на бугорочек, дрожат обнямшись, проливают горько-соленую слезу, что впервые не емши надо спать ложиться. Они ведь там ровно детки, на полных харчах состояли, в раю-то. Плачут этак, своеобычно друг дружку попрекают… Тут и подходит к ним ихний соблазнитель, только уж не в прежней змеиной коже, а переодемшись в партикулярное платье, разумеется. «Не печальтеся, горемышные, — он к им задушевно так, нараспев обращается, — в чем ваше горе? Вы мне доверьтеся, а то глядеть на вас кровью сердце обливается!» Они ему так в рукав оба и вцепилися: «Пожалуйста, говорят, примите в нас участие, а то с квартиры согнали, зверь в лесу стонет, ночь подступает… жутко в мире голому да натощак!» Он им в ответ: «Не убивайтеся, гражданы, в тот сад и другая дорога имеется. Вставайте, пожалуйста, время деньги, я вас сам туда проведу!» И повел… — Пчхов задумчиво огладил заросшие седой щетиной щеки. — Вот, с той поры и ведет он нас. Спервоначалу пешечком тащился, а как притомляться стали, паровоз придумал, на железные колеса нас пересадил. Нонче же на ерошшнах катит, в ушах свистит, дыханье захлестывает. Впереди Адам поддает со своею старухою, а за ими мы все, неисчислимое потомство, копоть копотью… ветер кожу с нас лоскутьями рвет, а уж ничем теперь нельзя нашу жажду насытить. Долга она оказалася, окольная-то дорожка, а все невидимы покамест заветные-то врата! — Он кончил вздохом сочувствия, и можно было по его сказке угадать, на что ушла у них с Фирсовым зимняя длинная ночь. — Так-то оно на поверку обстоит, Федор Федорыч.
— И правильно! — сумбурно вмешался Векшин. — Зато уж как достигнут, сами станут всему хозяева. Человек есть такое вещее слово, Пчхов, что выше всех титулов на свете. Он и не может иначе: ему вперед и вверх надо, все вперед и вверх…
— Вот-вот, и про это имелось словечко у моего Агафодора, — немедля подхватил Пчхов. — Черному-то ангелу, как провинился он в начале дней, тоже все мнилось, что вперед и вверх летел, а это он башкой вниз падал, Митя.
— Вострословый он был, наставник ваш… с жальцем! — заметил Фирсов.
— Правда-то иногда и насмерть жалит, зато кривда ласкает, да нежит, да поддакивает! — Здесь Пчхов поднялся, сгреб в ладонь фирсовские окурки со стола и кинул в печь. — Давайте прощаться, милые.. мне скоро мастерскую открывать.
И остылая печка, и наросший на лампе нагар подсказывали, что время расходиться. Холодом несло из-под двери, морозный узор на окне заметно посинел. Под предлогом обменяться сужденьями о некоторых благушинских новостях Пчхов увел Векшина к себе за занавеску. Одеваясь и все попадая в оторванную подкладку рукава, Фирсов ловил обрывки их шепота, причем первый как будто уговаривал под видом шутки, а второй твердил упорно, что нет, что ему вперед и вверх надо, вперед и вверх.
— Оставался бы пожить у меня, — услыхал между прочим Фирсов, — а через недельку мы бы и скатали, навестили бы одного старичка… жив еще, в секрете, в глубоком подземном погребе сокрывается. Он твою боль, Митя, как рукой с сердца сымет… кстати и от табачку отучил бы!
— Нет, зачервивею я в твоем подполье, примусник, — дружелюбно оборонялся Векшин. — Уж дай Митьке догореть, дай ему вдоволь намахаться. Откуда старому хрену знать, что творится в середке молодого сердца?
Дальше подслушивать Фирсову стало неловко, — он тихонько, не прощаясь, выскользнул наружу. Впрочем, Митька догнал его еще в воротах, им немножко было по дороге. Оба чувствовали установившуюся меж ними почти кровную связь и потому не нуждались в произнесении обязательных на расставании слов. А уж мальчишки бежали по Благуше с ворохами утренних газет, и Митька, взяв одну, долго и без выражения вчитывался в какую-то сенсацию, видимо перед самым выходом в свет заскользнушую в номер. И так случилось поэтому, что оба остановились закурить… Светало и морозило, сретенское утро удавалось на славу. Точно решив отоспаться за всю трудовую педелю, мягко покоилась окраина в сыпучих снеговых пуховиках. С дворцовой роскошью разряженные хибарки, скрюченные от невзгод деревья во двориках, самый воздух над ними — все искрилось то синим в тени, то алым на восходе инеем. Разноголосо пел снег под шагами редких прохожих, и, словно в совершенной музыке, не было звука лишнего кругом. И уже выкатывался из небесной дымки царственный медный шар… Куда там, неописуемо великолепие утра на Благуше!