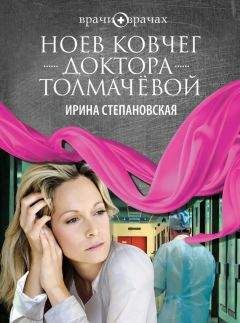— Вот увидишь, скоро мы будем в Марселе, — сказал я. — А оттуда переберемся в Лиссабон и затем в Америку.
Там есть хорошие врачи, — думалось мне, — и больницы, в которых людей не арестовывают. Быть может, я смогу работать.
— Мы забудем Европу, как дурной сон, — сказал я.
Элен не отвечала.
— Одиссея началась, — продолжал Шварц. — Странствие через пустыню. Переход через Красное море. Вы все это, наверно, знаете.
Я кивнул.
— Бордо. Нащупывание проходов через границу. Пиренеи. Медленная осада Марселя. Осада обессиленных сердец и бегство от варваров. Бесчинство обезумевшей бюрократии. Ни разрешения на проживание, ни разрешения на выезд. Когда мы, наконец, его получали, то оказывалось, что испанская виза на проезд через страну тем временем уже истекла, а вновь ее можно получить, лишь имея въездную португальскую визу, которая часто зависела еще от чего-нибудь. И опять все сначала — ожидание у консульств, этих предместий рая и ада! Бесконечное, бессмысленное кружение.
— Нам сначала удалось попасть в штиль, — сказал Шварц. — Вечером Елену оставили силы. Я нашел комнату в одинокой гостинице. Мы впервые вновь были на легальном положении; впервые, после нескольких месяцев, у нас была комната для нас одних — это и вызвало у нее истерический припадок.
Потом мы молча сидели в маленьком саду гостиницы. Было уже холодно, но нам не хотелось еще идти спать. Мы пили вино и смотрели на дорогу, ведущую к лагерю, которая видна была из сада. Чувство глубокой благодарности наполняло меня и отдавалось в мозгу. В этот вечер все было захлестнуто ею, даже страх за то, что Елена больна. После слез она выглядела присмиревшей и спокойной, будто природа после дождя — она была прекрасна, как профиль на старой камее.
— Вы поймете это, — добавил Шварц. — В этом существовании, которое вели мы, болезнь имела совсем другое значение. Болезнь для нас означала прежде всего невозможность бежать.
— Я знаю, — ответил я с горечью.
— В следующий вечер мы увидели, как вверх по дороге к лагерю проползла машина с притушенными фарами. В этот день мы почти не выходили из нашей комнаты. Вновь иметь кровать и собственное помещение — это было такое непередаваемое чувство, которым никак нельзя было насладиться вполне. Мы оба вдруг почувствовали бессилие и усталость, и я охотно провел бы в этой гостинице несколько недель. Но Элен вдруг немедленно захотела ее покинуть. Она не могла видеть больше дорогу, ведущую к лагерю. Она боялась, что гестапо вновь будет ее разыскивать.
Мы упаковали наши скромные пожитки. Вообще, конечно, было разумно тронуться дальше, имея еще разрешение на проживание в этом районе. Если бы нас где-нибудь сцапали, то в крайнем случае лишь препроводили бы сюда. Можно было надеяться, что нас не арестуют сразу.
Я хотел пробраться сначала в Бордо. По дороге мы, однако, услышали, что ехать туда уже поздно. По пути нас подвез владелец небольшого двухместного ситроена. Он посоветовал перебыть лучше где-нибудь в другом месте. Поблизости места, куда он едет, сказал он, есть небольшой замок. Он стоит пустой, и мы могли бы там переночевать.
У нас не оставалось выбора. Под вечер он высадил нас и уехал. Мы остались одни. Перед нами в сумерках возвышался маленький замок, скорее загородный дом с темными, молчаливыми окнами без гардин.
Я поднялся по широкой лестнице и толкнул входную дверь. Она открылась. На ней были следы взлома. В полутемном холле шаги прозвучали резко и отчужденно. Я крикнул — в ответ раздалось только ломкое эхо. Дом был пуст. Унесено было все, что можно унести. Остался лишь интерьер восемнадцатого века: стены, отделанные деревянными панелями, благородные пропорции окон, потолки и грациозные лесенки. Мы медленно переходили из комнаты в комнату. Никто не отвечал на наши призывы. Я попробовал найти выключатели. Их не было. Замок не имел электрического освещения. Он остался таким, как его построили. Маленькая столовая была белая и золотая, спальня — светло-зеленая с золотом. Никакой мебели, владельцы вывезли ее во время бегства.
В мансарде, наконец, мы нашли сундук. В нем были маски, дешевые пестрые костюмы, оставшиеся после какого-то праздника, несколько пачек свечей. Самой лучшей находкой, однако, нам показалась койка с матрацем. Мы продолжали шарить дальше и нашли в кухне немного хлеба, пару коробок сардин, связку чесноку, стакан с остатками меда, а в подвале — несколько фунтов картофеля, бутылки две вина, поленницу дров. Поистине, это была страна фей!
Почти везде в доме были камины. Мы завесили несколькими костюмами окна в комнате, которая, по-видимому, служила спальней. Я вышел и обнаружил возле дома огородные грядки и фруктовый сад.
На деревьях еще висели груши и яблоки. Я собрал их и принес с собой.
Когда стемнело настолько, что нельзя было заметить дыма, я развел в камине огонь, и мы занялись едой. Все казалось призрачным и заколдованным. Отсветы огня плясали на чудесных лепных украшениях, а наши тени дрожали на стенах, подобно духам из какого-то другого, счастливого мира.
Стало темно, и Элен сняла свое платье, чтобы подсушить у огня. Она достала и надела вечерний наряд из Парижа.
Я открыл бутылку вина. Стаканов у нас не было, и мы пили прямо из горлышка. Позже Элен еще раз переоделась. Она натянула на себя домино и полумаску, извлеченные из сундука, и побежала так через темные переходы замка, смеясь и крича, то сверху, то снизу. Ее голос раздавался отовсюду, я больше не видел ее, я только слышал ее шаги. Потом она вдруг возникла позади из темноты, и я почувствовал ее дыхание у себя на затылке.
— Я думал, что потерял тебя, — сказал я и обнял ее.
— Ты никогда не потеряешь меня, — прошептала она из-под узкой маски, — и знаешь ли почему? Потому что ты никогда не хочешь удержать меня, как крестьянин свою мотыгу. Для человека света это слишком скучно.
— Уж я-то во всяком случае не человек света, — сказал я ошарашенный.
Мы стояли на повороте лестницы. Из спальни сквозь притворенную дверь падала полоса света от камина, выхватывая из мрака бронзовый орнамент перил, плечи Елены и ее рот.
— Ты не знаешь, кто ты, — прошептала она и посмотрела на меня сквозь разрезы маски блестящими глазами, которые, как у змеи, не выражали ничего, но лишь блестела неподвижно.
— Если бы ты только знал, как безотрадны все эти донжуаны! Как поношенные платья. А ты — ты мое сердце.
Может быть, виною тому были костюмы, что мы так беспечно произносили слова. Как и она, я тоже переоделся в домино — немного против своей воли. Но моя одежда тоже была мокрая после дождливого дня и сохла у камина. Необычные платья в призрачном окружении минувшей жеманной эпохи преобразили нас и делали возможными в наших устах иные, обычно неведомые слова. Верность и неверность потеряли вдруг свою тяжесть и односторонность; одно могло стать другим, существовало не просто то или другое — возникли тысячи оттенков и переходов, а слова утратили прежнее значение.
— Мы мертвые, — шептала Элен. — Оба. Ты мертвый с мертвым паспортом, а я сегодня умерла в больнице. Посмотри на наши платья! Мы, словно золотистые, пестрые летучие мыши, кружимся в отошедшем столетии. Его называли веком великолепия, и он таким и был с его менуэтами, с его грацией и небом в завитушках рококо. Правда, в конце его выросла гильотина — как она всегда вырастает после праздника — в сером рассвете, сверкающая и неумолимая. Где нас встретит наша, любимый?
— Оставь, Элен, — сказал я.
— Ее не будет нигде, — прошептала она. Зачем мертвым гильотина? Она больше не может рассечь нас. Нельзя рассечь свет и тень. Но разве не хотели разорвать наши руки — снова и снова? Сжимай же меня крепче в этом колдовском очаровании, в этой золотистой тьме, и, может быть, что-нибудь останется из этого, — то, что озарит потом горький час расставания и смерти.
— Не говори так, Элен, — сказал я. Мне было жутко.
— Вспоминай меня всегда такой, как сейчас, — шептала она, не слушая, — кто знает, что еще станет с нами…
— Мы уедем в Америку, и война когда-нибудь окончится, — сказал я.
— Я не жалуюсь, — говорила она, приблизив ко мне свое лицо. — Разве можно жаловаться? Ну что было бы из нас? Скучная, посредственная пара, которая вела бы в Оснабрюке скучное, посредственное существование с посредственными чувствами и ежегодными поездками во время отпуска…
Я засмеялся:
— Можно взглянуть на это и так.
Она была очень оживленной в этот вечер и превратила его в праздник. Со свечой в руках, в золотых туфельках, — которые она купила в Париже и сохранила, несмотря ни на что, — она побежала в погреб и принесла еще бутылку вина. Я стоял на лестнице и смотрел сверху, как она поднимается сквозь мрак, обратив ко мне освещенное лицо, окруженное тьмой. Я был счастлив, если называть счастьем зеркало, в котором отражается любимое лицо — чистое и прекрасное.

![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](https://cdn.my-library.info/books/137955/137955.jpg)