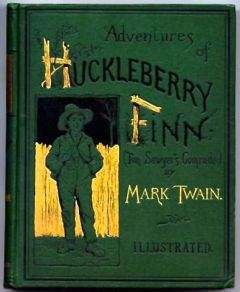Ладно, в конце концов, король встал, отошел малость от гроба и, собравшись с силами, произнес прочувствованную речь — сплошные сопли и темное вранье, — насчет того, каким тяжким испытанием стала для него и для его бедного брата и утрата покойного, и то, что они не застали его живым, проделав долгий путь в четыре тысячи миль, однако это испытание искупается и очищается добрым сочувствием и святыми слезами собравшихся, и потому он благодарит их от всего сердца — своего и брата тоже, — ибо слова слишком слабы и холодны, чтобы выразить… — ну и прочая чушь и дребедень в этом роде, так что, под конец меня аж тошнить начало; а закончил он благочестивым «аминь!» и рыданием совсем уж душераздирающим.
И в ту же минуту кто-то запел благодарственный гимн и все подхватили его, и пели во всю мочь, и у меня даже на душе полегчало, как в церкви. Хорошая вещь, музыка — после всех этих медоточивых речей и лицемерного вздора она казалась такой честной, такой красивой, что сердце радовалось.
Ну а после король опять балабонить начал — мол, он и брат его будут рады, если близкие друзья покойного поужинают с ними этим вечером и помогут обрядить бренные останки Питера, и он-де знает, чьи имена назвал бы сейчас его лежащий вон там брат, если бы мог говорить, ибо имена эти он часто упоминал в своих письмах, и потому, он, король то есть, имеет возможность назвать их и сам, вот они: преподобный мистер Хобсон, священник Лот Говей, и мистер Бен Ракер, и Эбнер Шаклфорд, и Леви Белл, и доктор Робинсон, и их, и вдова Бартли.
Преподобный Хобсон и доктор Робинсон находились в это время на другом конце городка, промышляли там на пару — то есть, доктор помогал больному тихо-мирно перекочевать на тот свет, а проповедник объяснял бедолаге, как добраться туда самым кротким путем. Адвокат Белл уехал по каким-то делам в Луисвилль. Ну а все остальные тут были и стали подходить к королю, и жать ему руку, и благодарить его, и утешать, а после каждый жал руку герцогу, но уже молча — просто улыбаясь и головой кивая, ни дать ни взять болванчики, — а герцог вертел в воздухе пальцами и, не закрывая рта, бубнил: «Гу-гу-гу-агу-агу», точно дитя, которое говорить еще не выучилось.
А король продолжал разглагольствовать, задавая вопросы чуть ли не обо всех жителях городка и даже об их собаках, называя имена и клички, упоминая о разных случившихся здесь тогда-то и тогда-то событиях и перебирая случаи из жизни Джорджа и Питера. И то и дело давал понять, что ему об этом Питер писал — врал, разумеется, все это он вытянул из юного простофили, которого мы в челноке к пароходу подвозили.
Потом Мэри Джейн вручила ему оставленное дядей письмо, и король зачитал его вслух и облил слезами. В письме говорилось, что жилой дом и три тысячи долларов золотом остаются девочкам, а дубильня (так и продолжавшая работать, принося хороший доход), и другие дома, и земля (общей стоимостью в семь тысяч долларов), и еще три тысячи золотом переходят во владение Гарвея с Уильямом. А кроме того, в письме говорилось, что вся наличность — шесть тысяч — спрятана в погребе дома, и указывалось, где именно. Ну, король объявил, что он с братом сей минут спустятся в погреб и найдут золото, и поделят его честь по чести, и велел мне взять свечу и идти с ними. Они плотно закрыли за собой дверь погреба, отыскали мешок с золотыми монетами и высыпали их на пол — зрелище получилось на славу. И как же засветились глаза короля! Хлопнул он герцога по плечу и говорит:
— Здорово, а! И ведь мы эти денежки за красивые глаза получили! Что, Билджи, это вам не «Совершенство» разыгрывать, верно?
Герцог с ним согласился — верно. Они зарылись руками в груду монет, потрясли их в горстях, снова ссыпали на пол, со звоном, а потом король сказал:
— Ну, ничего не скажешь, изображать братьев покойного богача и его заграничных наследников — самые для нас с вами подходящие роли, Билджи. Вот что значит — полагаться на Провидение. В конечном счете, лучше ничего не придумаешь. Я чего только не перепробовал и точно могу сказать — это самое разлюбезное дело.
Каждый, кто огреб бы такую груду золота, обрадовался бы да и дело с концом, но эти нет — эти решили свои денежки пересчитать. Ну и пересчитали и оказалось, что их не шесть тысяч, а на четыреста пятнадцать долларов меньше. Король и говорит:
— Черт подери, куда ж эти четыреста пятнадцать подевались?
Они даже испугались немножко, обшарили все вокруг, но ничего не нашли. Герцог говорит:
— Ладно, человек он был уже больной, мог и ошибиться — думаю, так оно и случилось. Самое верное — помалкивать на этот счет. Как-нибудь и без них обойдемся.
— Проклятье, обойтись-то мы, разумеется, обойдемся. Меня не столько деньги заботят, сколько то, что нам их пересчитывать придется. Вы ж понимаете, мы с вами люди как бы прямые и честные. Мы должны оттащить эти деньги наверх, пересчитать их при всех, чтобы никто ничего не заподозрил. И если покойник сказал — шесть тысяч, — нам вовсе не нужно, чтобы…
— Постойте-ка, — говорит герцог. — Мы же можем восполнить недостачу.
И давай шарить по карманам, деньги вытаскивать.
— Превосходная мысль, герцог, все-таки здорово у вас котелок варит, — говорит король. — Опять нас «Совершенство» выручает, не сойти мне с этого места.
И тоже стал доставать из карманов золотые монеты и складывать их столбиками.
В итоге, остались они почти без гроша, однако денег ровно до шести тысяч наскребли.
— Знаете, — говорит герцог, — у меня еще одна идея возникла. Давайте поднимемся сейчас наверх, пересчитаем деньги, а после отдадим их девчонкам.
— Отличная идея, герцог, дайте я вас обниму! Роскошная, до лучшей никто бы не додумался. Поразительная все-таки у вас голова, никогда такой не встречал. Да, это будет всем финтам финт, и говорить не о чем. Если у кого и возникли подозрения на наш счет, такой фокус их мигом угомонит.
Мы поднялись наверх, все собрались у стола, король начал пересчитывать деньги, складывая монеты столбиками, по триста долларов в каждом, — и столбиков получилось ровно двадцать. Все смотрели на них несытыми глазами и облизывались. Потом монеты ссыпали обратно в мешок, и я увидел, как король выпячивает грудь, собираясь закатить еще одну речугу. И закатил:
— Друзья, наш бедный брат, что лежит вон там, проявил щедрость к тем, кого оставил в сей юдоли скорбей. Щедрость к бедным овечкам, коих он так любил и приютил под своим кровом, когда они лишились отца и матери. И мы, все, кто знал его, знаем, что он был бы к ним еще щедрее, когда бы не убоялся поранить мои и Уильяма чувства. Разве не так? Я нисколько в этом не сомневаюсь. Но какими же братьями оказались бы мы, если бы встали в столь скорбное время у него на пути? И какими же мы оказались бы дядьями, коли ограбили б — да, ограбили — бедных, кротких овечек, коих он так любил в столь скорбное время? Насколько я знаю Уильяма, а я думаю, что знаю моего брата, он… впрочем, я просто спрошу у него.
Поворачивается он к герцогу и начинает выделывать руками всякие знаки, а герцог некоторое время тупо смотрит на короля, дурак-дураком, но потом до него вроде как доходит, и он бросается к королю, гугукая во все горло от радости, и раз пятнадцать подряд обнимает его. Тогда король говорит:
— Я так и знал и, полагаю, это убедило всех вас в его чувствах. Так вот, Мэри Джейн, Сьюзен, Джоанни, возьмите эти деньги — возьмите их все. Это дар от того, кто лежит вон там, хладный, но счастливый.
Мэри Джейн бросилась к нему, Сьюзен с Заячьей Губой к герцогу, и пошли у них такие объятья да поцелуи, каких я сроду не видал. А все остальные пустили слезу и столпились вокруг мошенников, чтобы пожать и тому, и другому руку, и все повторяли:
— Какой достойный поступок! — как мило! — ну кто бы на такое решился?
Вот, а в скором времени все опять заговорили о покойном, о том, какой он хороший был человек, какая невосполнимая утрата, ну и так далее; и тут вошел с улицы рослый мужчина с крепким таким подбородком, стоит, слушает, смотрит, но ничего не говорит; и к нему никто не обращается, потому что король опять завелся и все ему в рот глядят. Я на его болтовню особого внимания не обращал, но вдруг слышу:
— …были особенно близкими друзьями покойного. Потому их и пригласили сюда на сегодняшний вечер. Однако завтра мы хотели бы видеть всех — всех и каждого, ибо он уважал каждого и каждого любил и, значит, будет правильным, если погребальное опоение станет публичным.
И пошел, и пошел, уж больно ему нравилось самого себя слушать, и все приплетал к месту и не к месту погребальное опоение, пока у герцога терпение не лопнуло, — он написал на клочке бумаги: «Упокоение, старый вы идиот», сложил его, загугукал и передал через головы людей королю. Тот прочитал записку, сунул ее в карман и говорит: