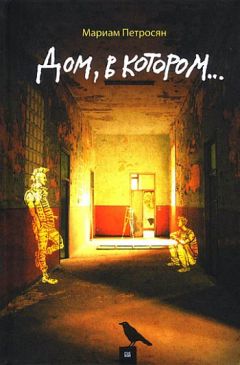В голосе раздражение — я и мои страхи его достали. Должно быть, они видны невооруженным глазом.
— Иди, — повторяет Янус. — Все устали. Завтра выходной. Я разрешу тебе зайти к нему.
— Не выйдет, — терпеливо объясняю я. — Был бы рад послушаться, но не могу. Пока не увижусь с Лордом, я не могу ни спать, ни есть, ни смотреть в глаза нашим. Не могу вернуться ни с чем и завалиться в кровать. Я не сделал того, что должен был сделать — неужели вы не понимаете?
— Я должен потакать тебе в твоих капризах?
— Это не каприз. Вы это прекрасно знаете.
— Он должен от вас отдохнуть. Ему нужен покой. Ты в своем истеричном состоянии только навредишь ему.
— Покой у него будет там, куда вы его отправите. И навредят ему там намного больше. Знаете, как здесь говорят о тех, кто ушел из Дома? Как о покойниках. А вы не даете мне побыть с человеком, который скоро для нас умрет.
Янус слезает со стола. Трет лицо, длинный и сутулый, больше, чем когда-либо, похожий на того себя, каким его изобразил Леопард.
— Знаешь… — говорит он, — если ты просидишь в моем кабинете еще немного, я пожалуй не смогу больше оставаться тут один. Мне станет мерещиться бог знает что, пока я окончательно не уверюсь, что это и впрямь страшное место. Не знаю, как ты этого добиваешься, но с этим трудно бороться.
— Я не добиваюсь, — говорю я. — Я так чувствую.
— Пойдем, — он открывает дверь и придерживает ее для меня. — Мне дороги мой кабинет и мое душевное спокойствие. Поэтому, чем быстрее ты отсюда уберешься, тем лучше для нас обоих.
Я встаю.
— Так вы меня к нему пустите?
— Мы идем туда. Как, по-твоему, должен я спросить, хочет ли он тебя видеть?
Идем по Могильному коридору. Он шагает — длинный, как белая башня, я еле волочу ноги, поспевая за ним. Меня можно свернуть в жгут и использовать вместо половой тряпки. Конечно, я добился своего, но для самого главного, ради чего все затевалось, уже не осталось сил. Сворачиваем в боковой коридор. Задержавшись у длинного непрозрачного шкафа, Янус вытаскивает из него халат и бросает мне:
— Подожди здесь. Сейчас вернусь.
Я жду, рассматривая композицию из кактусов в розовых горшочках, подвешенных на проволочной конструкции, чем-то напоминающей паутину. Еще одну. Этот коридорный аппендикс, выстланный белым линолеумом, сверкает под лампами, гордо демонстрируя главное качество Могильника — стерильность. При желании с него можно есть. Но я всего лишь сажусь на пол и прислоняюсь к стене. И привожу в порядок расшатанные нервы простым внушением. «Ты не пациент, ты здесь проездом. Пробегом. Ты уйдешь, когда вздумается. Помни об этом и терпи».
Когда-то давно в статье о Могильнике я расковырял слово пациент. Препарировал, его разложил на микрочастицы. И пришел к выводу, что пациент не может быть человеком. Что это два совершенно разных понятия. Делаясь пациентом, человек утрачивает свое «я». Стирается личность, остается животная оболочка, смесь страха и надежды, боли и сна. Человеком там и не пахнет. Человек где-то за пределами пациента дожидается возможного воскрешения. А для духа нет страшнее, чем стать просто телом. Поэтому Могильник. Место, где отмирает дух. Страх, которым пропитаны здешние стены, неистребим. В детстве я не понимал, откуда взялось это название. Старшие оставили его нам в наследство вместе со своим ужасом перед этим местом. Чтобы до него дорасти потребовалось время. Много времени и страшных потерь. Подрастая, мы как будто заполняли нишу, вырубленную до нас, но по нашей мерке. Пока не заняли ее целиком. Пока не поняли смысл всех названий, придуманных когда-то, и не повторили почти все действия, уже проделанные. Даже безобидный «Блюм» был чьим-то праправнуком, целиком наше детище — и повторение старого. Я не сомневался: если найти номера его предшественников и покопаться в них, всплывет не один крик ненависти к Могильнику, аналогичный моему.
Янус выходит и кивает на дверь:
— Можешь войти. Через четверть часа зайду и проверю, как на него действует твое присутствие. Если он будет расстроен, ты здесь больше не появишься.
— Спасибо, — говорю я и вхожу.
Белизна кафельных стен слепит. Палата крошечная, одноместная. Окон нет. Лорд сидит, укрытый до колен, в уродливой серой пижаме с завязками у горла. На тумбочке рядом с кроватью — поднос с тарелкой овсянки и стаканом молока. Нелепая пижама Лорду к лицу, как, впрочем, все, в чем мне доводилось его видеть. По теории Табаки, Золотоголовый останется красив, даже если его вывалять в дерьме, а уж какие-нибудь живописные смола и перья, сделают его просто неотразимым. Человек, непривычный к Злому Эльфу, в его присутствии теряется, погребенный под кучей комплексов. Привычный и очень голодный может отвлечься тарелкой овсянки. Как это происходит со мной.
Она прекрасна! В тарелке с каемкой из мелких розовых цветочков, с золотистой лужицей масла по центру, нежно-бежевая, уже подернувшаяся застывшей корочкой, но явно еще теплая… как раз в меру. Гляжу как загипнотизированный, умирая от желания наброситься, с чавканьем и урчанием вылизать тарелку начисто, с хлюпом втянуть молоко, упасть и уснуть. Смешно, но чем отчетливее я себе это представляю, тем мне голоднее. Даже ноги начинают подкашиваться. Еще немного — и я свалюсь замертво. Лорд удивленно таращится.
— Привет, — бросаю ему, не отрывая взгляда от овсянки. — Как дела?
Да. Явно, что-то не то несу. Какие у него могут быть дела? Дурацкий вопрос. Но надо же было что-то сказать.
Лорд кривит губы. — Какие дела? О чем ты?
Молчу. Тупо и безнадежно. Овсянка остывает. Лорд смотрит хмуро.
— Ты случайно не голоден?
Вежливый вопрос. Как это мило с его стороны!
— Случайно — очень да!
— Тогда, может…
Дальше не слушаю. Коршуном падаю на овсянку и истребляю ее. Кажется, все-таки ложкой, потому что по окончании трапезы обнаруживаю ее торчащей в зажиме правой грабли. Правда, черенком наружу, так что не совсем понятно, как я умудрился с ее помощью есть. Но это уже мелочи. Все еще трясясь от жадности, чудом не задохнувшийся, обессилено опускаюсь на край кровати.
— Спасибо, Лорд. Это звучит банально, но ты спас мне жизнь.
Подбородок Лорда вздрагивает.
— Я заметил. Извини, это бросается в глаза.
До меня потихоньку начинает доходить юмор ситуации. Предполагаемый утешитель и ободритель явился измордованный, безумными глазами уставился на овсянку и слопал ее, едва дождавшись приглашения. Сожрал обед больного.
— Да. Нехорошо получилось, — признаю я.
Лорд начинает хохотать. Я тоже. Смеемся до слез, истерично, как пара психов. Я даже начинаю опасаться за овсянку, но до этого дело не доходит. Веселье обрывается так же внезапно, как началось. Лорд мрачнеет.
Неприятная пауза. То, чего я опасался с самого начала. Между нами вырастает щит. Обитый железными бляшками, с фамильным гербом — двухголовым вараном-переростком, на фоне трех ярко-красных полос.
— Какая сука?.. — начинает Лорд тоном, от которого на гербе появляется четвертая красная полоса: «склонен к насилию, опасен, нуждается в строгой изоляции».
— Черный, — поспешно перебиваю я, пока красных полос не стало пять или даже, не приведи господь, шесть. — И не смотри на меня так. Я тоже виноват. Надо было получше к нему принюхаться, когда он вдруг вызвался посидеть с тобой. Если тебя это хоть немного утешит, я его чуть не отправил на тот свет.
— А он тебя, — усмехается Лорд.
— Куда ему.
Еще одна пауза. Лучше бы он ругался. Молчать этот тип умеет до жути выразительно. И долго. Так что мы сидим и молчим, а тишина сгущается вокруг душным облаком. Нечто странное присутствует в ней. Лорд скорее растерян, чем зол. Возможно, это результат лечения, а может, и что-то другое.
— Что теперь со мной будет? — спрашивает он, когда я уже расстался с надеждой продолжить разговор.
— Не знаю. Как повезет.
Не слишком честно, но не говорить же, что шансов практически нет. Я бы и не смог. Лорд, тем не менее, сникает, как будто я сказал все.
— Дерьмо, — шепчет он. — Надо же было так вляпаться…
Я молчу. Собственное бессилие пожирает меня. Скоро останутся одни кости. После смерти Волка, довольно знакомое чувство. В свое время оказалось, что я вполне могу с ним жить. Теперь мне придется пройти через это вновь, утешаясь тем, что бывало и хуже. По крайней мере, Лорд останется жив.
— Слушай, — говорит он. — Ты пил когда-нибудь «Дорогу»?
— Нет. Даже не пробовал. Ни «Дорогу», ни «Белую радугу», ни «Четыре ступеньки».
Лорд глядит странно. Его распирает от желания что-то рассказать, и вместе с тем он боится это делать.
— А ты поверишь, если я скажу, что попал черт знает куда, и прожил там не меньше четырех месяцев?
Спрашивает — и отводит взгляд. Пальцы терзают край одеяла, губы кривятся в усмешке, как будто я разразился протестующим квохтаньем, перекрестился граблями и упал в обморок.
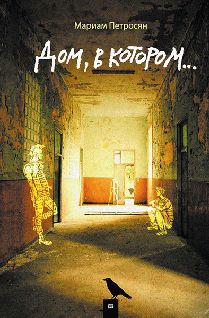
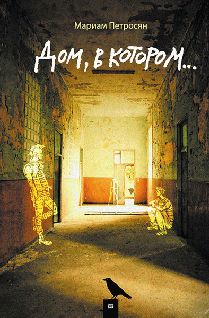
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](https://cdn.my-library.info/books/127223/127223.jpg)