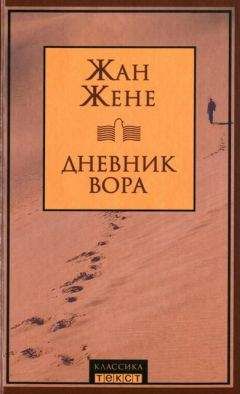Я хочу на миг сосредоточить внимание на высшем счастье, заключенном в отчаянии, когда человек неожиданно остается один на один с собственной непредвиденной гибелью, когда он присутствует при неумолимом уничтожении своего творения и самого себя. Я отдал бы все сокровища мира — они и вправду стоят того, — чтобы очутиться в безнадежном, неведомом положении и чтобы никто не знал, что я его испытал. Одинокий Гитлер в бункере своего дворца, без сомнения, пережил в последние минуты разгрома Германии подобный миг чистейшего озарения: хрупкую и надежную ясность — сознание собственного краха.
Моя гордость зарделась румянцем моего стыда.
Хотя моя цель — святость, я не могу сказать, в чем она состоит. Исходной точкой служит для меня само слово, обозначающее состояние, наиболее близкое к духовному совершенству. О нем мне тоже ничего не известно, разве только то, что без него моя жизнь была бы напрасной. Не в силах дать удачное определение святости — так же, как и красоты, — я стремлюсь создавать ее каждый миг, то есть стараюсь, чтобы все мои действия направляли меня к сей неведомой цели. Пусть же каждый мой шаг будет отмечен стремлением к святости, до тех пор, пока я не засияю так, что люди скажут: «Это святой» или, скорее всего: «Это был святой». Я бреду на ощупь, как слепой. Методы достижения святости еще не созданы. Наугад, руководствуясь лишь уверенностью в том, что это благое дело, я совершаю движения, которые ведут меня к ней. Может быть, она достижима с помощью математики, но я опасаюсь, что таким образом обретают лишь доступную, выхолощенную святость с уже апробированными формами, одним словом, академическую святость. Это значит обрести подобие святости. Руководствуясь простейшими нравственными и религиозными принципами, святой добивается своей цели, лишь когда отказывается от них. Подобно красоте, а также поэзии, с которыми я ее сравниваю, святость необычна. Ее выражение самобытно. Однако я считаю, что она покоится исключительно на отрешенности. Следовательно, я сравниваю ее также и со свободой. Но я хочу стать святым главным образом потому, что это слово означает высочайшее положение человека, и я сделаю все, чтобы его достичь. Я воспользуюсь своей гордостью и пожертвую ею ради святости.
Трагедия — это радостный миг. Чувство радости может выразиться в улыбке, в ликовании лица и тела. Герою не ведома значимость трагической темы. Он не должен ее лицезреть, даже если смутно ее предвидел. Равнодушие присуще ему от рождения. На балах в рабочих предместьях встречаются серьезные молодые люди, безразличные к музыке; они скорее дирижируют ею, а не воспринимают ее. Другие весело роняют в девушек сифилис, подобранный в одной из них же; невозмутимо, с улыбкой на лицах, они движутся к распаду собственных тел, о котором возвещают восковые фигуры лачуг. Если герой идет на смерть — к неизбежной развязке, — он идет с открытым сердцем, как навстречу если не счастью, то наиболее совершенному, то есть счастливому самовыражению. Герой не станет корчить гримас при героической смерти. Лишь она, эта смерть, делает из него героя, будучи состоянием, к которому отчаянно стремятся посредственности; она — это слава и, наконец (сама смерть и нагнетение видимых неудач, которые к ней ведут), — венец предрасположенной к ней судьбы, но в первую очередь — это взгляд нашего отражения в идеальном зеркале, которое являет нас в вечном сиянии (до тех пор пока не померкнет сей свет, названный нашим именем).
Висок кровоточил. Двое солдат только что подрались из-за чего-то, о чем они давно позабыли; тот, что помоложе, упал с виском, рассеченным чугунным кулаком, а другой смотрел, как стекавшая кровь превращается в букетики примул. Это цветение быстро распространилось, перекинулось на лицо, которое моментально покрылось множеством таких же мелких цветков, нежных и фиолетовых, как вино, которым блюют солдаты. В конце концов все тело юноши, валявшееся в пыли, стало пригорком, усыпанным настолько большими примулами, что они вполне могли сойти за маргаритки, в которых гуляет ветер. Лишь одна рука пока была видна и дергалась, но ветер не оставлял в покое растения. Вскоре победителю осталась видна только кисть, неловко махавшая ему в знак прощения и безнадежно утраченной дружбы. Эта кисть в свою очередь исчезла в цветущем гумусе. Ветер медленно и нехотя стих. Небо помрачнело, высветив глаз жестокого солдата-убийцы. Он не плакал. Он уселся на кургане, в который превратился его друг. Ветер налетел снова, но уже не столь яростно. Солдат отбросил волосы, упавшие на глаза, и улегся. Он заснул.
Улыбка трагедии также вызвана своего рода юмором по отношению к богам. Герой трагедии тактично подшучивает над своей судьбой. Он проделывает это столь нежно, что мишенью его шуток на сей раз становятся не люди, а боги.
Уже судимый за воровство, я могу получить новый срок без всяких улик, по одному лишь обвинению или подозрению. Закон считает меня способным на преступление. Опасность подстерегает меня не только во время кражи, но и в каждый миг бытия, потому что я воровал. Смутная тревога окутывает мою жизнь туманом, отягчает и в то же время облегчает ее. Чтобы сохранить ясность и остроту моих глаз, мое сознание должно контролировать каждый мой шаг, чтобы я смог моментально изменить его смысл, скорректировать его направление. Эта тревога не дает мне уснуть. Она держит меня в позе белки, изумленно застывшей на лужайке. Но тревога и подхватывает меня как вихрь, кружит мне голову, заставляя ее гудеть, и толкает меня во мрак, где я прижимаюсь к земле, услышав под листьями, как земля отзывается на чьи-то шаги.
В древности Меркурий якобы был богом воров, поэтому они знали, к кому им обращаться. У нас же нет никого. Возможно, было бы логично молиться дьяволу, но ни один из воров по-настоящему не отважится на это. Вступить с ним в сделку — значит зайти чересчур далеко, ведь он восстал против Бога, который, как всем известно, в итоге стал победителем. Даже убийца не решится молиться дьяволу.
Чтобы порвать с Люсьеном, я утоплю этот взрыв в лавине несчастий и буду думать, что именно она унесла малыша. Он будет кружиться соломинкой в воронке торнадо. Узнав, кто наслал на него беду, он возненавидит меня, но эта ненависть оставит меня равнодушным. Угрызениям совести и упрекам его прекрасных глаз будет не под силу меня взволновать, ибо я окажусь во власти отчаянной скорби. Я лишусь вещей куда более дорогих моему сердцу, чем Люсьен, но не настолько дорогих, как мои угрызения совести. Поэтому я охотно убил бы Люсьена, чтобы похоронить мой стыд под роскошным саваном преступления. Увы, религиозный страх и удерживает меня от убийства, и приближает меня к нему. Этот страх рискует сделать из меня священника, превратить в жертву Бога. Чтобы разрушить притягательную силу убийства, мне, быть может, достаточно довести ее до предела, практически обосновав злодеяние. Я сумел бы убить человека за несколько миллионов. Вес золота может оказаться тяжелее веса убийства.
Догадывался ли об этом бывший боксер Лёду? Убив сообщника из мести, он устраивает в его комнате беспорядок, чтобы создать видимость ограбления, берет со стола пятифранковую купюру и объясняет своей удивленной подруге:
— Я сохраню эти деньги как талисман. Никто не скажет, что я убил не ради наживы.
Довольно быстро я обрету присутствие духа. Размышляя об этом, не следует позволять своим векам и ноздрям принимать трагический вид, а надо обдумывать план преступления непринужденно, широко распахнув глаза и наморщив лоб как бы от наивысшего изумления и восторга. Тогда ни угрызения совести, ни преждевременное страдание не смогут поселиться в уголках ваших глаз или выбить почву у вас из-под ног. Насмешливая улыбка, нежный мотив, насвистываемый сквозь зубы, чуть-чуть иронии в пальцах, вынимающих сигарету, сумеют восстановить связь с унынием в моем дьявольском одиночестве (если только я не полюблю какого-нибудь убийцу, которому присущи и этот жест, и эта улыбка, и этот нежный мотив). Похитив кольцо Б.Р., я задался вопросом: а вдруг он об этом узнает? Я продал кольцо кому-то из его знакомых!
Я представляю (ибо Люсьен любит меня) его горе и мой стыд.
Итак, я предусматриваю худший из вариантов: смерть. Его смерть.
Я видел на бульваре Османна, как задержали грабителей. Удирая из магазина, один из них попытался выбраться через витрину. Засыпав свой арест грудой осколков, рассчитывал ли он таким образом придать ему значимость, в которой будет отказано предшествовавшему деянию — ограблению?
Он торопился окружить себя кровавым, поражающим, наводящим трепет триумфом, даже в центре которого он остался бы жалким. Преступник прославляет свой подвиг. Он хочет исчезнуть под этим великолепием, раствориться в грандиозном спектакле, поставленном судьбой. В то время как он разлагает свое преступление на тугие мгновения, оно расчленяет его.