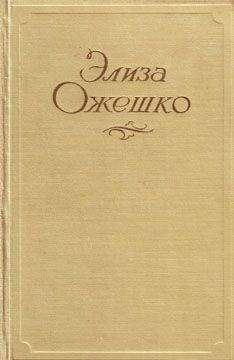Жена каменщика, узнавшая о приезде пани и паненки от одной из служанок, сперва пришла в изумление при виде своей маленькой родственницы, а потом и от ее вещей, извлекаемых из двух чемоданов. Она опустилась на пол рядом с Хелъкой, а та все ей показывала и объясняла:
— Вторая шляпа… — восклицала Янова, — третья… четвертая!.. О господи! Да сколько же у тебя шляп, Хелька?
— Столько, тетя, сколько платьев, — объясняла девочка, — к каждому платью особая шляпа…
— А это что за коробка?
— Это дорожный несессер…
— А на что он?
— Как на что? Видите, тетя, тут разные отделения, а в них все, что нужно для умывания, причесывания и одевания… Вот гребни, мыло, щеточки, шпильки разные, духи…
— Пресвятая дева! И это все твое?
— Да, мое. У пани тоже есть несессер, только у нее большой, а у меня поменьше…
В эту минуту Черницкая доставала из чемодана кукол различной величины и множество других, самых разнообразных игрушек. Были там и великолепные, точно живые, птички и причудливые зверюшки, домашняя утварь, сверкающая серебром и позолотой и тому подобное. Янова широко открыла рот от удивления, а глаза у нее стали грустными.
— Ах, боже! — вздохнула она. — Моим бы ребятам хоть поглядеть разок на все это…
Хелька посмотрела на нее, задумалась, потом живо кинулась к своим игрушкам и тряпкам и с великой поспешностью стала совать их в руки Яновой:
— Возьми, тетя, вот сова для Марыльки, а это рыбка для Каськи… Вицю, может быть, подойдет вот эта гармоника, ее только тронешь — и она чудесно играет… Бери, тетя, бери! Пани не будет сердиться, пани такая добрая и так меня любит… Возьми еще розовый платочек для Марыльки, а для Каськи вот этот голубой… у меня таких платочков много… очень много…
Янова с глазами, полными слез, хотела было заключить девочку в свои мощные объятия, но, видимо побоявшись измять ее воздушное платьице, ограничилась тем, что потрепала ее по атласной щечке. От подарков она решительно отказалась, но, поднявшись с полу, сказала:
— Хорошая ты девочка! Хоть и растешь важной госпожой, но бедными родственниками, которые тебя когда-то приютили, не гнушаешься…
Склонившаяся над большим сундуком Черницкая, услышав слова Яновой, выпрямилась и быстро, выразительно не проговорила, а скорее выдохнула из себя:
— Ах, дорогая Янова! Ну, кто может знать, кем он станет в будущем — важной персоной или мелкой сошкой.
Янова ничего не ответила, — растроганно улыбаясь, она смотрела на Хельку, которая, хохоча и прыгая, точно веселый, проворный котенок, в один миг набила ей все карманы конфетами.
— Это для Марыльки, — кричала она, — а это для Каськи, а это для Вицка, а это, тетя, для дяди Яна…
Вдруг она вздрогнула и лицо ее омрачилось.
— Здесь холодно! — сказала она, надув губки. — В Италии гораздо лучше и красивей… там всегда светит солнце и апельсиновые рощи… такие прекрасные… Мы здесь с пани долго не выдержим… наверно, опять поедем туда, где так тепло…
Черницкая уже надевала на нее мягкое, как пух, теплое пальто, но Хелька вырвалась из ее рук.
— Ай! — воскликнула она. — Как я долго не видела пани, пойду к ней! Adieu, тетя!
И, послав Яновой воздушный поцелуй, девочка вприпрыжку выбежала из комнаты, звонко напевая:
— Пойду к пани… к моей дорогой… к моей золотой… к моей любимой…
— Как она любит свою благодетельницу! — сказала Янова, обращаясь к Черницкой.
В тот же вечер Эвелина, утопая в пышных складках белого пенюара, сидела у туалетного столика, печальная и озабоченная. Хелька вся в кружевах и батисте уже спала глубоким сном в своей резной кроватке. На туалете догорали две свечи в высоких подсвечниках. За креслом Эвелины стояла Черницкая, расчесывая и заплетая на ночь ее все еще черные, длинные волосы. Помолчав с минуту, Эвелина заговорила:
— Знаешь, Чернися, мне становится трудно…
— Трудно? — участливо спросила кастелянша.
Поколебавшись, пани Эвелина чуть слышно ответила:
— С Хелей.
Затем обе довольно долго молчали. Черницкая медленно, едва касаясь, водила щеткой по черным шелковистым волосам своей хозяйки. Лицо ее, отражавшееся в зеркале туалета, выражало задумчивость. Минуту спустя она проговорила:
— Паненка растет…
— Растет, Чернися… и пора уже подумать об ее образовании. Гувернантку я в дом ни за что не возьму. Терпеть не могу в доме посторонних… Не знаю, что и делать.
Черницкая снова помолчала. Потом со вздохом проговорила:
— Как жаль, что паненка уже не та маленькая девочка, какой она пришла к нам…
Эвелина тоже вздохнула.
— Это правда, дорогая Чернися, только маленькие дети по-настоящему милы и доставляют чистую радость. Хеля уже вышла из того чудесного детского возраста. Ее нужно учить, читать ей наставления…
— Я заметила, что с некоторых пор вам очень часто приходится наказывать паненку…
— Да, у нее очень изменился характер. Она стала капризной… вечно дуется на меня за что-то…
— Паненка привыкла к вашей необычайной доброте.
— Это правда! Я избаловала ее. Но нельзя же большую девочку баловать так, будто она все еще прелестная крошка… изящная… ласковая…
— Паненке стало трудно угодить… Сегодня она рассердилась на меня за то, что, причесывая ее, я чуть сильнее потянула прядку волос…
— Правда? Рассердилась на тебя? Я помню, что и раньше она часто сердилась и вертелась на стуле, когда ты ее причесывала… Но пока она была маленькой, это было забавно и придавало ей очарование… Теперь же становится невыносимым… Хорошо было бы, если бы я ошиблась, но мне кажется, что она превращается в злюку…
— Вы приучили… Паненка привыкла к тому, что вы необычайно добры, — повторила Черницкая.
Обе замолчали. Черницкая кончила расчесывать волосы. Потом, склонившись над головой своей госпожи, чтобы надеть на нее легкий ночной чепчик, она совсем тихо и неуверенно сказала:
— Может быть, к вам на днях приедут гости…
— Гости? Какие же, дорогая Чернися? Кто?..
— Может, приедет тот пан, на концерте которого вы были во Флоренции и который потом несколько раз так изумительно играл у вас…
Легкий румянец появился на щеках Эвелины. В этот поздний час после долгого путешествия ее лицо напоминало увядший цветок.
— Он прекрасно играет, правда, Чернися? Он настоящий, великий артист.
Она оживилась, голос ее стал звонче, угасшие было глаза засверкали.
— А какой он красивый! — прошептала Черницкая.
— Не правда ли? О, эти итальянцы! Если уж кто-нибудь из них красив, так красив, как мечта…
Эвелина медленно прошла от туалетного столика до кровати и, когда она уже разделась, а Черницкая уложила пышное одеяло в красивые складки, мечтательно сказала:
— Чернися, милая, будь добра, последи, чтобы в доме все было хорошо и красиво… Гостиную убери… так, как ты умеешь… ведь у тебя столько вкуса и сноровки… Может случиться… кто-нибудь приедет к нам…
И в последующие вечера пани Эвелина и Черницкая вели за туалетом такие же короткие и отрывистые беседы:
— Чернися, ты заметила, как Хеля дурнеет?
— Да, мне кажется, паненка уже не такая складная, как раньше…
— Она становится совсем нескладной… Не пойму, отчего у нее такие длинные ноги… И подбородок как-то странно вытянулся…
— Все же паненка очаровательна…
— Нет, она не будет такой красивой, как можно было предположить несколько лет назад… О боже! Как время летит! Летит и летит и уносит с собой все наши надежды…
Однако на следующий день на лице Эвелины засияла блаженная надежда. На туалетном столике лежало надушенное письмецо, присланное из Италии.
— Чернися, у нас будут гости…
— Слава богу! Вы хоть немножко развеселитесь. С тех пор как мы вернулись из-за границы, вы все время грустите…
— О Чернися, как я могу быть веселой! Мир так печально устроен! Избранные души, которые ищут идеала, совершенства, вечно только ошибаются…
Помолчав с минуту, она добавила:
— Взять к примеру Хелю… Какая была прелестная, милая, забавная девочка… а теперь…
— С тех пор как мы вернулись из-за границы, паненка все дуется или грустит..
— Какая там грусть! Чего ей грустить? Дуется на меня за то, что я занимаюсь ею меньше, чем раньше… О боже! Но разве я могу всю жизнь ничем иным не интересоваться, кроме этого ребенка!..
— Паненка привыкла к вашей необычайной доброте, — твердила свое Черницкая.
И в самом деле, Хеля грустила и непрерывно капризничала. У избалованной девочки, привыкшей только к приятным впечатлениям, нервы расстроились под влиянием обиды, в причине которой она не в состоянии была разобраться, и чувства ее находили выход то в слезах, то в бурных вспышках гнева. Когда ее причесывали или одевали, она во весь голос кричала, топала ногами, сжимала кулачки и чуть не била Черницкую. Когда Эвелина в ответ на ее нежное воркование молчала, отделывалась небрежным замечанием или вовсе запиралась от нее в своей спальне, девочка садилась в углу гостиной на низенькую скамеечку и, съежившись, надув губы, бормотала себе под нос сердитые тирады, заливаясь слезами. А Эвелина, глядя на ее распухшие и покрасневшие глаза, окончательно склонялась к убеждению, что Хеля злючка и заметно дурнеет. Иногда девочке приходило в голову сделать что-нибудь назло охладевшей к ней опекунше — кто знает, может быть, таким путем она вновь привлечет к себе ее внимание? Когда Эвелина, увлеченная чтением, погружалась в глубокое раздумье, Хелька по-кошачьи подкрадывалась к фортепьяно, искоса поглядывая на пани Эвелину, и изо всей силы обеими руками ударяла по клавишам. В былые дни такая какофония вызвала бы у Эвелины веселый смех и на ребенка посыпался бы град поцелуев. Но ведь теперь Хелька была совсем не такой забавной, как прежде, а Эвелина часто грустила. Поэтому она всякий раз вскакивала, подбегала к своевольной девочке и сурово корила ее, а иногда даже ударяла по рукам. Тогда Хелька, плача и дрожа всем телом, падала перед ней на колени, целовала ее ноги и долго, страстно, как молитву, шептала самые нежные и ласковые слова.