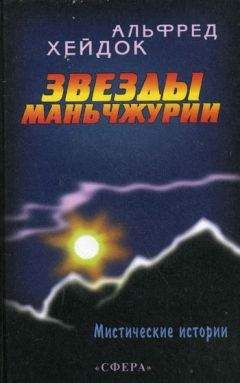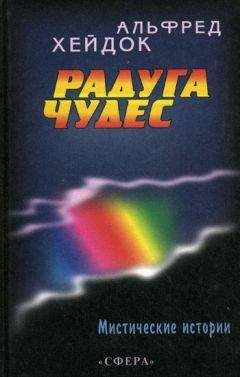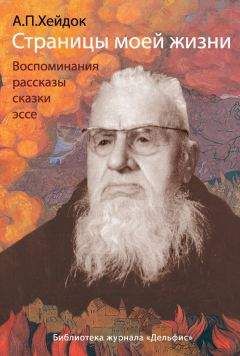В сумраке сводчатого входа я тихо прошел меж двух рядов страшных слуг Властителя Мира и Небес. Раскрашенные физиономии духов, воплощенные в потемневшее дерево и позолоту, недвижно глядели на меня мертвыми глазами, поблескивали серповидными секирами, грозили адскими трезубцами…
А дальше — опять мощеный двор, солнечные блики, трепет листвы на каменных плитах и шелест…
Я уже поднимался по ступеням в следующее отделение храма, когда чуть не столкнулся с изможденным, похожим на тень монахом.
Я сделал шаг в сторону, а потом с криком вцепился в него.
— Багров!..
Он долго смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом его лицо прояснилось, он грустно улыбнулся.
— Наконец! Хорошо, что ты здесь! Я даже думал об этом… Надо же кому-нибудь рассказать, чтобы не сочли за сумасшедшего… Хотя… разве не все равно?.. Ну, пойдем.
Потрясенный встречей и видом Багрова, я молча последовал за ним. Мы уселись на краю обрыва, где отроги Кэнтей Алина, точно чудовищные ящеры, раскинули перед нами извивы своих зубчатых спин. Я ждал, когда он заговорит. Багров помолчал, как будто собираясь с силами, как будто стряхивая с себя какое-то оцепенение… Затем заговорил, все более и более воодушевляясь…
— Помнишь, как я написал маньчжурскую принцессу там, на заброшенном кладбище? Ты думал, что со мной случился солнечный удар… На самом деле было совершенно другое; девушка действительно появилась между елей у входа…
Я был страшно увлечен работой, нем и глух ко всему и совершенно не дал себе труда задуматься, откуда она появилась. Какое мне дело? Только обрадовался, что у меня будет красочная центральная фигура: она мне более всего нужна была в ту минуту. Боясь, как бы она не ушла слишком скоро, я спешил скорее нанести ее на полотно.
Я работал с невероятным подъемом, и картина под моими пальцами близилась к концу с поражавшей меня самого быстротой.
И когда она была почти готова, я оглянулся на девушку и… неожиданно увидел ее подошедшей ко мне вплотную…
Будто кто-то ударил меня: я выронил кисть и обеими руками схватился за голову… Мне нужно было вспомнить что-то, во что бы то ни стало необходимо было вспомнить то, что было скрыто за какой-то мутной, дрожащей пеленой и было одновременно так близко!.. И мука с такой силой охватила все мое существо, что сердце было готово выскочить из груди…
А девушка смотрела на меня укоризненным, скорбным взглядом. Она качала головой, губы ее подергивались, шептали чье-то имя…
Я заплакал от тоски и нестерпимой боли… Почему же, почему я не могу вспомнить! Давящим комом во мне росло желание безумно закричать, и, кажется, я кричал…
И тогда — точно вихрь прошумел в голове… Ослепительная вспышка… Мрак… И я уже держу девушку на руках… Вороной конь подо мной испускает короткое ржание и бешено мчит нас вперед… И еще рядом множество копыт отбивает дробь под странными всадниками, и все мы стремительно уходим от невидимой погони..
Чувствую себя невероятно сильным!..
Ночь… Кустарник… Летящие навстречу деревья и скалы… И, несмотря на опасность погони, столько упоения в этой скачке! Столько торжества бунтующей, никаких законов не признающей силы, что я сжимаю девушку как в железных тисках, целую ее, с ужасом отбивающуюся от меня, и испускаю короткие, сдавленные крики, которых я не могу удержать от душащего меня восторга…
Возбужденный воспоминаниями бредовой погони, Багров на минуту прервал рассказ и глухо закашлялся, как кашляют чахоточные.
Возбуждение утомило его — он стал рассказывать медленнее.
— Ну знаешь… Одним словом, в ту минуту я уже был не нынешний Багров, а… Как ты думаешь, кто я был? Яшка Багор, атаман шайки… ну, там — землепроходец Сибири, что ли или просто — разбойник. А вернее, и то, и другое вместе, потому что помню — впоследствии, у лагерного костра, я часто разговаривал с товарищами о теплом море, Опоньском царе и еще разных диковинах.
И ты был между нами… С самопалом, громадным топором и длинным ножом за голенищем… А звали тебя — «Васька Жги пятки», потому что… ты у нас был чем-то вроде специалиста по пыткам…
Багров застенчиво и неловко улыбнулся, как будто чувствуя себя виноватым в том, что определил меня в своем отряде на такую странную должность. Это вышло у него так забавно, что и я не удержался от улыбки, слушая этот, по моему мнению, горячечный бред.
— Мы ушли от погони в тот раз, — начал он опять, — это было удачное ограбление целого поезда знатной дамы со свитой и прислужницами. Две недели мы мчали добычу на север, где у нас на вершине Собачьей головы был лагерь.
Девушка — о том, что она была маньчжурской принцессой, я узнал лишь впоследствии — стала моей женой, ее прислужницы сделались подругами моих товарищей.
Я брал ее ласки, но она не любила меня. Помню, был даже случай, когда я нашел у нее небольшой, но острый, как жало осы, кинжал. Ложась спать, я нащупал его спрятанным в платье своей жены и преспокойно вытащил оттуда, не бросив ей ни одного упрека. Больше того, я положил его рядом с ее изголовьем и, усмехнувшись, уснул. Такие отношения продолжались до того дня, который все изменил и спутал все карты: на вершине Собачьей головы нас окружил многочисленный отряд маньчжуров, высланный за нами в погоню.
Дело было на рассвете. Постов, по дьявольской беспечности, мы не выставили, — у маньчжуров, мол, руки коротки!
Я еще спал, когда Васька Жги пятки ворвался в мой шалаш.
— Вставай, атаман, маньчжурские мужики за нашими головами идут.
Пока я надевал «сбрую» и прислушивался к начавшейся лагерной суматохе и ругани: «Какие такие мужики идут?.. Сбрендили спьяну!», мне бросилось в глаза радостно-взволнованное лицо моей жены.
— Рада, поди, стерва!
Горько вдруг стало на душе. Но я только взглянул на нее исподлобья и помчался выяснить размеры опасности.
На увенчанной каменным карнизом вершине Собачьей головы царила полная растерянность. Всем уже было ясно, что на сей раз не уйти… Как зверь рыскал я по вершине, перегибаясь и вглядываясь то туда, то сюда, в усеянные кустарником скаты, и везде мой взгляд натыкался на конных маньчжуров, оцепивших гору железным кольцом.
— Что, черти! Прозевали? — рычал я с налитыми кровью глазами на попадающихся людей. — С бабьем возились? А?
Все молчали, только откуда-то сбоку донесся спокойный голос Ерша Белые ноги, прозванного так за свои опорки:
— Не шуми, атаман! Сам-то ты больше на бабу глаза таращил, чем порядок блюл!
— Руби засеки, чертово отродье! — закричал я, почуяв изрядную долю правды в словах Ерша.
Опешившие станичники зашевелились. Моментально появились топоры, и все с остервенением навалились на работу; рубили и приволакивали целые деревья, прикатывали громадные глыбы камня — засека росла.
Но меня это не утешало: конец был ясен — отгуляли! Единственное, на что я хоть сколько-нибудь надеялся, — перед атакой маньчжуры вышлют парламентеров и предложат сдаться, а там можно будет поторговаться: сперва соглашаться, а потом отказываться. Канителить и всячески выигрывать время, чтобы как-нибудь обмануть и прорваться.
Далеко внизу протрубил рог. Бурые ряды по долинам задвигались, заходили волнами — всадники слезали с коней. Край солнца показался на горизонте и брызнул снопами золотистых лучей. Кое-где блеснули перистые шлемы вождей. Строятся.
Если теперь не вышлют парламентеров, то — никогда!
Нет, двигаются! Медленно, но уверенно, как сама смерть!
Они еще далеко, но мне, кажется, что я слышу шорох бесчисленных шагов. И, прислушиваясь к отдаленному гулу, я начал свирепеть: как же… за нашими головами идут! Ладно же, пусть тогда это будет веселая смерть!
Я вскочил на самый высокий камень и крикнул что было силы: «Эй, ребята, висельники, кандальники, отпетые головы! Хорошо ли погуляли по миру за Уралом, за камнем?»
— Хорошо погуляли, атаман!
— Было ли пито, бито и граблено?
— Было и пито, и бито, и граблено! — хором отвечали разбойники.
— А довольно ли бабья, станичники?
— И бабья хватало!
— Так вот, братцы-станичники, пора и честь знать. Отзвонили — и с колокольни долой. Без попов нас сегодня отпевать пришли и отпоют… Так не жалей, братцы, пороху в последний раз! Чтоб веселей окочуриться хмельной голове! Да бейся так, чтобы черти на том свете в пояс кланялись!!!
Я выдержал паузу и обвел всех глазами. Мои лохматые бородачи закивали головами и в один голос закричали:
— Орел — наш атаман! Дюже правильно сказано? Чтоб черти… И тогда я ударил в ладоши и заплясал на камне, притопывая ногами:
«Эх-ма! Ух! Ух!
Как девица молода
Рано поутру за медом шла…»
Кубарем выкатились из засеки Сенька Косой, Митька Головотяп, да Ерш Белые ноги и с гамом и присвистом пустились вприсядку. Пулями вылетели другие, и все завертелось, заплясало у обреченной засеки.