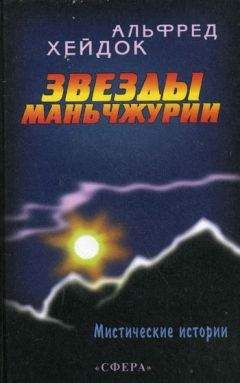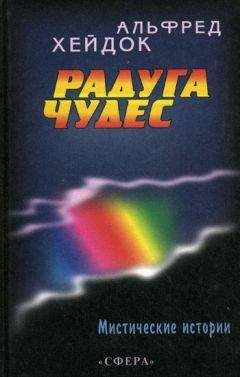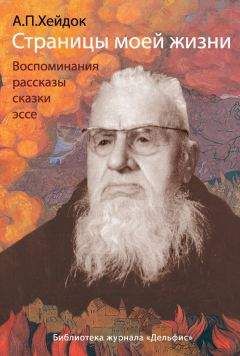— Вылезай! — продолжал Бельский, — обедать надо! У меня такое ощущение, будто мне в спину вогнали осиновый кол. Шутка ли! С самого утра не разгибался.
Оба компаньона добывали золото в маньчжурских сопках, или, попросту говоря, хищничали. Прежде чем попасть сюда, они солдатскими сапогами месили галицийские поля на великой войне; потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что сами они буржуи и враги народа. Тогда два друга двинулись на Восток, где долгое время об их благополучии, хотя скверно, но все-таки заботилось интендантство Колчаковской армии. Тут они заработали офицерские погоны, так как оба были не прочь заглядывать в беззубый рот старушки-смерти. Таким образом, все шло хорошо до тех пор, пока не стало ни армии, ни интендантства. После этого они попали в Маньчжурию, но здесь им сказали, что они ничего не умеют делать.
Сейчас им улыбнулось счастье, но это счастье было, пожалуй, самым непрочным в мире, так как им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр, и поселянин, и хозяин сопок хунгуз. Но — велик Бог русского эмигранта! — в балагане из коры лежал мешочек намытого золотого песка. Его вес возрастал с каждым днем, и это вселяло дикую энергию и отвагу в сердце хозяина.
Сам же источник этой удачи находился под обрывом, в сырой, мрачной щели между двух сопок. Здесь протекал ручей. Несмотря на май, вода в нем была холодна, как лед, и обжигала, как огонь. Но двум приятелям, которым грезилось волшебное будущее, все было нипочем.
Друзья выбрались из сумрачной щели и долго щурились, пока глаза не привыкли к яркому свету; так и заливало солнышко лощину с нехитрым балаганом.
Алеша быстро развел огонь и замесил в котелке варево «за все»; оно служило и хлебом, и первым, и всеми дальнейшими блюдами. Обед был сготовлен чрезвычайно быстро и еще быстрее съеден со звериным аппетитом. После — оба ничком уткнулись в траву. Разморило.
— Ты как думаешь, — спросил Вадим, — долго еще нам придется питаться бурдой?
— Долго — не дадут. Того и гляди, кто-нибудь нагрянет, и смазывай пятки!
— А потом?
— Потом… — глаза Бельского будто туманом подернулись, — потом начинается жизнь… Ведь мы с тобой еще не жили! Каждую ночь мне снятся женщины, надушенные, страстные… Они порхают около меня, шепчут мне в уши бесстыдные слова, ласкают… Ты знаешь: здесь тайга; весной от целины сила идет, так она пронизывает меня, бунтует кровь…
Вадим молчал. Ему тоже снилась женщина, но только одна — ласковая, нежная… Зажмурит Вадим глаза — так и видит всю ее перед собой. Все мысли — к ней. Сидит, поди, она в городе, в мастерской, и целый день крутит швейную машину, а кругом еще десятки таких же машин стучат. Без конца течет материя из-под пальчиков ее… Вот к этой женщине он придет из тайги прямо в мастерскую, возьмет за руку и навсегда выведет ее оттуда. А потом настанет точно такой день, какой он видел на экране, когда жил в городе: сыплются под дуновением белые цветы, пара выходит из церкви, а в весеннем воздухе гремит марш Мендельсона: тра-ра-ра… Да, да, обязательно этот марш!
Кончился короткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают; один выбрасывает песок из ямы, другой — промывает. У обоих одна мысль, как бы кто не помешал! Еще бы недельку, месяц поработать бы!
Катится с горы мал камешек. Столкнула его чья-то нога на вершине, а катится сюда, к работающим! Эх! Упадет — чьи-то мечты разобьет.
Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прянули в кусты и уставились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя курма китаец проходит. А, может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно… Нет! Повернул рябое лицо к ним — хунхуз! Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии! Вот быстро удаляется: высмотрел — чего ему больше! Теперь скоро вся банда сюда нагрянет.
Приятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на события. Вадим угрюмо молчал, а Бельский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше, там, в России? А сколько раз он терял и на чужбине.
Сборы были чрезвычайно короткие. Все было упаковано в рогули. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от ороченов и китайцев. Рогули водрузились за плечами, и два человека решительно зашагали, чтобы в двое суток достичь железной дороги.
Под самый вечер ливень пронесся над тайгой; он налетел бурею и в мгновение ока накрыл сопки мутною сеткою косо падающей воды. Пока бушевал ливень, день погас, и клокочущий раскатами грома мрак черною шапкою покрыл все. Вспышки молний выхватывали из темени стволы деревьев с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел, и дождь стих, и ночная тайга заговорила разными голосами: бурлили невидимые глазу ручьи, пищали какие-то зверьки, и трещали ветви под крадущимися в стороне шагами.
Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге; черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут: не ходи… не ходи…
Ноги путников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб; после беспощадного дождя его начало лихорадить.
— Леша, я больше не могу; давай устраиваться на ночлег!
— Потерпи, брат! Дотянем до перевала; там, в стороне от дороги, старая кумирня есть.
Еще грязь, кочки, крутой подъем, каскады воды с кустов и — перед ними зачернела похожая на громадный гриб кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Вольский натаскал хвороста и развел огонь на полу, то бурундук с писком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям.
Едкий дым потянулся от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал лихорадочный жар внутри, а вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обострение чувств.
— Все ли спокойно в тайге? — глухо заговорил молчавший до тех пор Бельский, — не идут ли за нами? Схожу, посмотрю.
Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что увидел. Печать смерти лежала на лице друга…
Есть страшный дар у некоторых людей: они могут заранее узнать обреченных. Еще на германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чье-нибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека убьют. Ни разу не ошибся. Этот дар обнаружил у себя и Вадим.
Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть: не ходи! — но Бельский уже выскользнул в дверь.
Вадим бессильно опустился на пол. Эх! Разве можно остановить судьбу? Все равно, нельзя! А, может быть, он ошибся? Дай, Бог!..
Тихо. Костер перестал потрескивать. Догорая, уголья тлеют синими огоньками, и не может слабый свет одолеть мрака. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища! Однако надо идти за ним! Чего это он сразу не догадался, надо бы вместе!.. Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Бельский стоит — вернулся! Только напряженный он такой до чрезвычайности, и тихо-тихо говорит, так тихо, что, кажется, будто и звука нет, но ясна для Вадима его речь:
— Сейчас беги отсюда! Хунхузы уже здесь! Они уже убили меня!
Сказал это старый товарищ и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе.
Сперва страх ощутил Вадим, потом дрожь прошла по телу, и он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил рогули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту:
— Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти! И я тебя не забуду, слышишь!
В два прыжка он выскочил на двор и прямо грудью столкнулся с рослым детиною. Отскочил, взмахнул топором, — что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги из темноты. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом прыгнул во тьму и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях…
* * *
Два дня спустя на вокзале одной из станций К. В. железной дороги появился невероятно оборванный человек с бледным, усталым лицом. Он купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел выпроводить бродягу, считая его недостойным «чистой половины», но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского.
— Самого лучшего, — прибавил он.
Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяка, причем опять прибавил: «Самого лучшего».
За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки.