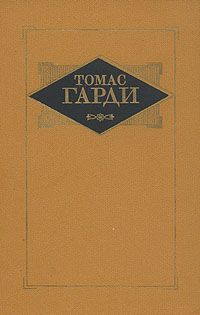Он встал, обнаружил, что находится во вполне приличном состоянии и может без труда тронуться в путь. Потом он взвалил на спину свою корзину и убедился, что может нести ее; тогда, приподняв полотнище палатки, он вышел на воздух.
С угрюмым любопытством он стал озираться по сторонам. Свежесть сентябрьского утра оживила его и подбодрила. Когда он пришел сюда накануне вечером вместе с женой и дочкой, они были утомлены и мало что заметили, а потому теперь он смотрел на окружающую местность как бы впервые. Он стоял на открытом высоком месте, окаймленном вдали рощей. Внизу, куда вела извилистая дорога, находилась деревня, которая дала свое имя возвышенности, служившей местом ежегодной ярмарки. Отсюда шел спуск в долины и подъем к другим возвышенностям, усеянным курганами и пересеченным остатками древних укреплений. Все вокруг было залито лучами недавно взошедшего солнца, еще не успевшего осушить ни единого стебелька в росистой траве, на которой лежали длинные тени желтых и красных фургонов, так что тени от их колес походили на вытянутые орбиты комет. Все цыгане и владельцы балаганов, заночевавшие здесь, расположились в своих палатках и повозках или лежали под ними, закутавшись в попоны, тихо и недвижимо, словно в объятиях смерти, – лишь случайный храп выдавал их присутствие. Но у Семерых спящих была собака; и собаки неведомой породы, принадлежавшие бродягам и похожие столько же на кошек, сколько на собак, и столько же на лисиц, сколько на кошек, также лежали вокруг. Какая-то маленькая собачонка выскочила из-под повозки, тявкнула для порядка и тотчас улеглась снова. Она была единственным несомненным свидетелем того, как вязальщик сена покинул уэйдонское ярмарочное поле.
По-видимому, это отвечало его желанию. Он шел в глубоком раздумье, не обращая внимания ни на желтых овсянок, порхавших с соломинками в клюве над живой изгородью, ни на шляпки грибов, ни на позвякиванье овечьих колокольчиков, обладателям которых посчастливилось не попасть на ярмарочное поле. Выйдя на проселочную дорогу в доброй миле от места действия прошлого вечера, мужчина опустил свою корзину на землю и прислонился к воротам. Тяжкая проблема – а может быть, и не одна – занимала его мысли.
«Назвал я себя вчера кому-нибудь или нет?» – подумал он и наконец пришел к заключению, что не назвал. Он был удивлен и задет тем, что жена поняла его слова буквально, – это видно было и по лицу его, и по тому, как он покусывал соломинку, которую выдернул из живой изгороди. Он понимал, что она поступила так в запальчивости, больше того, она, должно быть, считала, что эта сделка к чему-то ее обязывает. В этом последнем он был почти уверен, зная ее натуру, чуждую легкомыслия, и крайнюю примитивность ее мышления. К тому же под ее обычным спокойствием могли скрываться безрассудная решимость и чувство обиды, которые и заглушили мимолетные сомнения. Как-то, когда он во время одной попойки заявил, что избавится от нее тем способом, к какому прибег сейчас, она ответила покорным тоном человека, готового принять удар судьбы, что так оно и случится и ей не придется слышать это от него много раз…
– Но ведь знает же она, что в такие минуты я сам не понимаю, что говорю! – воскликнул он. – Что ж, придется мне побродить в, этих краях, пока я не найду ее… Черт возьми, могла бы она подумать, прежде чем так срамить меня! – взревел он. – Ведь она-то не была пьяна, как я. Этакая идиотская простота – как это похоже на Сьюзен! Покорная… Эта ее покорность причинила мне больше зла, чем самый лютый нрав!
Немного успокоившись, он вернулся к первоначальному своему убеждению, что должен так или иначе отыскать ее и свою маленькую Элизабет-Джейн и по мере сил примириться с позором. Он сам навлек его на себя и должен нести его. Но сначала он решил дать обет – такой великий обет, какого никогда еще не давал, а чтобы принести клятву надлежащим образом, требовалось соответствующее место и обстановка, ибо в верованиях этого человека было что-то идолопоклонническое.
Он взвалил корзину на спину и двинулся в путь, на ходу окидывая пытливым взглядом местность, и вдали, в трех-четырех милях, увидел крыши и колокольню деревенской церкви. К этой колокольне он и направился. В деревне стояла тишина, был тот безгласный час, который наступает в сельской повседневной жизни после ухода мужчин на полевые работы и кончается с пробуждением их жен и дочерей, когда те встают, чтобы приготовить завтрак к их возвращению. Вот почему вязальщик сена достиг церкви никем не замеченный и вошел в нее, поскольку дверь была заперта только на щеколду. Он опустил свою корзину возле купели, прошел по нефу до решетки перед алтарем и, открыв дверцу, вступил в святилище; на секунду он почувствовал себя как-то странно, но потом преклонил колени на возвышении, уронил голову на книгу с застежками, лежавшую на престоле, и громко произнес:
– Я, Майкл Хенчард, сегодня утром, шестнадцатого сентября, здесь, в этом священном месте, даю обет в том, что двадцать лет не притронусь к спиртным напиткам, считая по году на каждый уже прожитый мною год. И в этом я клянусь на лежащей передо мною книге. И да поразят меня немота, слепота и беспомощность, если я нарушу мой обет!
Произнеся эти слова и поцеловав большую книгу, вязальщик сена встал и, казалось, почувствовал облегчение, вступив на новый путь. Приостановившись на минуту на паперти, он увидел густую струю дыма, внезапно вырвавшуюся из красной трубы ближайшего коттеджа, и понял, что его обитательница только что затопила печь. Он подошел к двери, и хозяйка за ничтожную плату согласилась приготовить ему завтрак. Подкрепившись, он приступил к поискам своей жены и ребенка.
Сложность этой задачи обнаружилась довольно скоро. Хотя он всех расспрашивал и допытывал и день за днем колесил по округе, но тех, чье описание он давал, нигде не видели с того вечера на ярмарке. Дело осложнялось еще и тем, что он не мог установить, как звали моряка. Деньги его были уже на исходе, и он после некоторых колебаний решил истратить полученную от моряка сумму на продолжение поисков. Но и это оказалось тщетным. Боязнь заявить открыто о своем поступке помешала Майклу Хенчарду поднять вокруг этого дела шум, какой был необходим, чтобы поиски могли привести к желательным результатам. И, должно быть, потому-то он ничего и не добился, хотя им сделано было все, что не влекло за собой объяснения, при каких обстоятельствах он потерял жену.
Недели складывались в месяцы, а он все продолжал поиски, в промежутках берясь за случайную работу, чтобы прокормиться. Через некоторое время он добрался до морского порта и здесь узнал, что лица, отвечавшие его описаниям, не так давно покинули страну. Тогда он решил прекратить поиски и поселиться в местности, которую давно себе облюбовал. На следующий день он направился на юго-запад, останавливаясь только на ночевку, и шел до тех пор, пока не достиг города Кэстербриджа в отдаленной части Уэссекса.
Проезжая дорога в деревню Уэйдон-Прайорс снова была устлана ковром пыли. Как и во время оно, деревья снова были тускло-зеленые, и там, где некогда шла семья Хенчарда из трех человек, шли теперь двое, имевшие отношение к этой семье.
Все вокруг было совсем как прежде – вплоть до голосов и шума, доносившихся снизу, из соседней деревни, – так что, в сущности, этот день вполне мог бы наступить непосредственно вслед за изложенными ранее событиями. Перемены обнаруживались только в деталях, по которым можно было установить, что миновала длинная вереница лет. Одна из тех, что шли по дороге, была той женщиной, которая когда-то являлась молодой женой Хенчарда; теперь лицо ее потеряло свою округлость, изменилась и кожа, а волосы хотя и сохранили свой цвет, но значительно поредели. На ней был вдовий траур. Спутница ее, стройная девушка лет восемнадцати, также в черном, с избытком обладала тем драгоценным эфемерным обаянием, которое присуще только юности, а юность сама по себе прекрасна, независимо от красок и линий.
Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в ней дочь Сьюзен Хенчард, теперь уже взрослую. Лето жизни наложило свою печать огрубения на лицо матери, но время перенесло черты, отличавшие ее в пору весны, на ее спутницу, ее родное дитя, с таким искусством, что неведение дочери о некоторых фактах, известных матери, на момент могло показаться человеку, вспоминающему эти факты, странным несовершенством способности природы к непрерывному воспроизведению.
Они шли, держась за руки, и заметно было, что это вызвано сердечной привязанностью. В свободной руке дочь несла ивовую корзину старомодной формы, мать – синий узел, странно не подходивший к ее черному шерстяному платью.
Дойдя до околицы деревни, они пошли тою же дорогой, что и в былые времена, и поднялись на ярмарочное поле. Здесь также годы сделали свое дело. Кое-какие механические усовершенствования были внесены в карусели и качели, в машины для измерения силы и веса поселяй, в тиры, где проводились состязания в стрельбе на орехи. Но торговые обороты ярмарки значительно уменьшились. В окрестных городах теперь регулярно устраивались большие базары, и это начало серьезно сказываться на торговле, которая шла здесь из века в век. Загоны для овец, коновязи для лошадей занимали вдвое меньше места, чем раньше. Палатки портных, чулочников, торговцев полотном, бондарей и других ремесленников почти исчезли, и повозок было гораздо меньше. Некоторое время мать и дочь пробирались сквозь толпу, потом остановились.