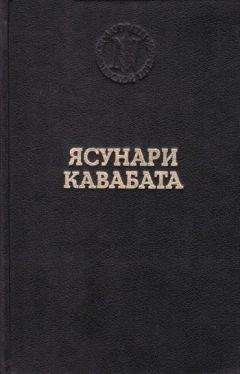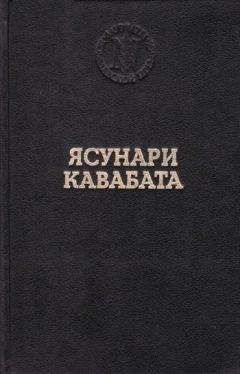— Не пора ли спать? — услышал он свой собственный шепот, хотя вполне мог говорить громко, и добавил: — Этот сон не будет вечным. Ни для нее, ни для меня… — После этой необычной ночи, как и после любой другой до нее, завтра утром он проснется, чтобы жить, — подумал Эгути и закрыл глаза. Ему мешала согнутая в локте рука девушки, указательный палец которой касался ее губ. Эгути взял ее руку за запястье и положил вдоль тела. Почувствовал пальцами пульс и задержал их на запястье девушки. Пульс бился приятно и ровно. Спокойное дыхание спящей было немного медленнее, чем дыхание Эгути. Ветер время от времени пролетал над крышей, но в нем больше не слышалось голоса приближающейся зимы. Шум волн, бьющихся о скалы, доносился все еще громко, но уже мягче; казалось, что отзвуки этого шума поднимается с моря, как музыка, звучащая в теле девушки и переходящая в биение пульса на запястье, а затем в биение сердца в ее груди. Перед закрытыми веками Эгути в такт этой музыке закружился в танце белоснежный мотылек. Старик выпустил руку девушки.
Теперь он совсем к ней не прикасался. Запах ее дыхания, запах тела, запах волос были едва ощутимы.
Старый Эгути вспомнил те несколько дней, когда он со своей возлюбленной, у которой однажды на груди выступила кровь, тайком сбежал в Киото через Хокурику. Быть может, он смог сейчас так живо все это припомнить оттого, что ему передавалось немного тепла от юного, чистого тела спящей девушки. Железная дорога от Хокурику до Киото проходит через множество маленьких туннелей. Каждый раз, когда поезд въезжал в туннель, девушка пугалась, прижималась коленями к Эгути и хватала его за руку. Когда они выезжали из туннеля, над пригорками и маленькими бухточками стояли радуги. И каждый раз девушка восклицала, радуясь каждой маленькой радуге: «Какая прелесть!» или «Ах, как красиво!» Она искала их глазами и справа, и слева и порой замечала такие бледные и неприметные, что трудно было сказать, есть ли они на самом деле. В конце концов это удивительное обилие радуг стало ей казаться плохим предзнаменованием.
— А вдруг нас догонят? Боюсь, нас схватят, как только мы приедем в Киото. А если меня отвезут назад домой, то уже больше не выпустят. — Эгути, только что окончивший университет и поступивший на службу, понимал, что в Киото им не на что будет жить и что, если они не решатся на самоубийство, им придется вернуться в Токио. Но глядя на маленькие радуги, он не мог отогнать воспоминания о самой потаенной части ее тела, которая потрясла его своей безгрешной чистотой во время свидания в гостинице у реки в Канадзава. В ту ночь шел снег. Молодой Эгути был так тронут, что у него перехватило дыхание и на глазах выступили слезы. Потом на протяжении десятков лет он не встречал такой безгрешности и чистоты ни у одной женщины. Ему казалось, что после этого он лучше стал понимать суть чистоты и что чистота сокровенного места девушки была одновременно и чистотой ее сердца. «Какие глупости!» — пытался он высмеять сам себя, но — это воспоминание, став реальностью в потоке его стремлений, и сейчас, на склоне лет, было неизгладимо глубоким. В Киото девушку разыскал и отвез обратно домой человек, посланный ее родителями; вскоре ее выдали замуж.
Однажды они случайно встретились на берегу пруда Синобадзу в парке Уэно; девушка несла на руках ребенка. У ребенка на голове была шерстяная шапочка. Стояла пора, когда на пруду Синобадзу вянут лотосы. Эгути подумал, что белый мотылек, танцующий перед его закрытыми глазами сейчас, когда он лежит рядом со спящей девушкой, появился, быть может, из белой шапочки на голове ребенка.
Когда они встретились там, на берегу пруда Синобадзу, Эгути только спросил ее: «Ну, как, ты счастлива?» И она, не задумываясь, ответила: «Да, счастлива». Вряд ли бы она ответила иначе. «А почему ты здесь одна да еще с ребенком на руках?» — На этот странный вопрос она не ответила, только молча смотрела на Эгути.
— Это мальчик или девочка?
— Конечно, девочка. Разве ты не видишь?
— Это не мой ребенок?
— Да нет же, нет. — Девушка тряхнула головой, глаза ее стали злыми.
— Если это мой ребенок, можешь сейчас ничего не говорить, скажешь, когда захочешь, хоть через двадцать лет.
— Да нет же, правда, не твой. Я не забыла, что любила тебя, но, пожалуйста, оставь свои подозрения. Они могут принести ребенку несчастье.
— Ты так думаешь? — Эгути не стал всматриваться в лицо девочки, но долго провожал глазами удалявшуюся фигуру женщины. Отойдя довольно далеко, она обернулась. Увидев, что Эгути смотрит ей вслед, ускорила шаг. Больше они никогда не виделись. Эгути слышал, что она умерла десять лет назад. Эгути шестьдесят семь лет, многих его родственников и знакомых уже нет в живых, но память об этой девушке — о белой шапочке на голове ребенка, непорочной чистоте сокровенного места и капельках крови на груди — теперь остается живой и яркой. Быть может, никто в мире не встречал такой непорочности и чистоты, но скоро все это исчезнет вместе с ним навсегда. То, что девушка, хотя ей и было стыдно, послушно позволяла Эгути рассматривать себя, очевидно, свойственно всем женщинам, но сама она наверняка ничего не знала об этой изумительной чистоте. Ведь сама она не могла себя видеть.
Приехав тогда в Киото, Эгути и девушка ранним утром шли по тропинке через бамбуковую рощу. Листья бамбука серебрились в лучах утреннего солнца и тихонько шелестели. Сейчас на склоне лет в его воспоминаниях листья бамбука были тонкими, нежными и совершенно серебряными, стволы бамбука тоже казались отлитыми из серебра. С одной стороны у самой дорожки цвели осот и коммелина. Как будто перепутались времена года; но именно такой виделась Эгути эта дорога. Выйдя из бамбуковой рощи, они пошли вверх по ручью, чистому и прозрачному, и, наконец, вышли к шумящему водопаду, от которого во все стороны летели искрящиеся на солнце брызги, а посреди брызг стояла нагая девушка. На самом деле ничего подобного не было, но старому Эгути с некоторых пор стало казаться, что все было именно так. Иногда, глядя на красивые сосны, растущие на холмах в окрестностях Киото, Эгути вспоминал эту девушку. Но никогда еще его воспоминания о ней не были такими яркими, как этой ночью. Должно быть, причиной тому молодость спящей рядом с ним девушки.
Сон окончательно покинул старого Эгути, и он даже не пытался заснуть. Не было у него и желания вспоминать других женщин, кроме той, что любовалась маленькими радугами. Не хотелось ему и трогать спящую девушку или разглядывать ее тело. Он лег на живот и снова раскрыл вынутый из-под подушки пакетик. Женщина сказала, что в пакетике снотворное, но что это за снотворное? Такое же, каким усыпили девушку? Эгути заколебался, положил в рот только одну таблетку и запил ее большим количеством воды. Он иногда пил вино, чтобы лучше спать, снотворного же обычно не принимал и, видимо, поэтому быстро заснул. И привиделся ему сон. Как будто обнимает его женщина, но у нее почему-то четыре ноги и всеми четырьмя она обвила его. Впрочем, руки у нее тоже были. Эгути наполовину проснулся, но, размышляя о том, что четыре ноги — довольно странное явление, не чувствовал страха и даже нашел, что это гораздо более соблазнительно, чем две ноги. У него возникла неясная мысль, что такие сновидения вызывает выпитое им лекарство. Девушка во сне повернулась к нему спиной и прижалась ягодицами. Эгути огорчился, что голова девушки теперь отодвинулась от него; в сладостном полусне он стал перебирать длинные, рассыпавшиеся по постели волосы девушки, как бы расчесывая их пальцами, и снова уснул.
Его второй сон был просто жутким. В палате какой-то больницы его дочь родила урода. Проснувшись, Эгути не мог вспомнить, в чем заключалось это уродство. Вероятно, он не мог вспомнить, потому что не очень хотел. Во всяком случае это было что-то ужасное. Новорожденного сразу забрали от матери. Однако она, укрывшись за белой занавеской в родильной палате, стала разрезать ребенка на части. Чтобы выбросить. Рядом с ней стоял в белом халате знакомый Эгути врач. Эгути тоже стоял рядом и смотрел.
И здесь, раздираемый кошмаром, он окончательно проснулся. Его поразили алые бархатные шторы, висевшие со всех четырех сторон. Обхватив голову руками, он потер лоб. Что за кошмарные сны! Неужели в снотворном, которое дают в этом доме, кроется какой-то злой дух. Впрочем, он ведь пришел сюда в поисках извращенного наслаждения, вот и видит соответствующие сны. Старый Эгути не знал, которая из трех его дочерей ему приснилась, он даже не думал об этом. Все три родили нормальных, здоровых детей.
Если бы Эгути мог сейчас встать и уйти, он бы так и поступил. Но он проглотил еще одну оставшуюся под подушкой таблетку снотворного, чтобы заснуть покрепче. Почувствовал, как холодная вода потекла по пищеводу. Спящая девушка по-прежнему лежала спиной к нему. Не исключено, что через некоторое время она родит на свет какого-нибудь тупого или безобразного ребенка; при этой мысли старый Эгути дотронулся рукой до ее хрупкого плеча.