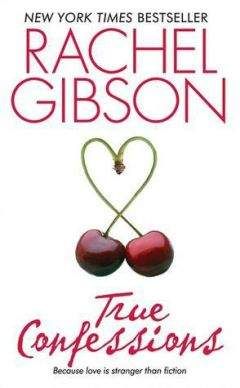— Клэй, выключи будильник!
Начиная с этих пор, его тело, казалось, никогда уже не пребывало в постели достаточно долго, чтобы там сохранялось его тепло. Впрочем, на что Мадж было жаловаться? Близок с нею он бывал раза два в году, не больше, на рождество и на пасху, хотя на пасху этого могло и не случаться — все силы отнимала Королевская сельскохозяйственная выставка.
Но дело было не в этом. А в тех белых листках бумаги, которые исписывал теперь Клэй за дверью маленькой комнаты, и его жена уже с трудом припоминала, как эта комнатка выглядит, так давно она туда не заходила. Одним из благоприобретенных миссис Мадж Скеррит качеств было уважение к праву другого на собственный мир.
Итак, Клэй писал. Поначалу он сосредоточился на неживых предметах, живущих своей таинственной жизнью. Годы с тех пор как он начал писать, он посвятил этому.
«…стол стоит и стоит его ножки так устойчивы конечно если взять топор и полоснуть по плоти тогда кричат убийца убийца но ничто не омрачает путешествий детства по застывшим волнам лесных просторов безо всяких кораблей струящиеся шелковые подолы мчат их из пункта А в пункт В в воображении пловца»
Долгое время он не сосредоточивал внимания на человеческих существах, хотя они всю жизнь его окружали. Да и на этот раз не то чтобы он сосредоточил внимание на живом существе — оно само вторглось к нему. К тому же Лав была совсем другое, чем все эти люди, по крайней мере сначала он по-иному ощущал ее присутствие, она была как бы его принадлежностью.
В ту ночь Клэя одолевала икота, он был очень взбудоражен, нервен. Громовые раскаты этой икоты заглушали тусклый голос его жены Мадж:
— Клэй, ты собираешься идти спать?
Лав по сравнению с нею была свежеветвящейся, зеленовато-желтой, словно поспевающая груша.
«Лав, Лав, Лав», — писал он на листе бумаги, как бы для пробы.
Ему это очень понравилось, он удивился, как это раньше не пришло ему в голову. Он способен был просто сидеть и писать ее имя, тем не менее Лав делалась все более осязаемой.
Вначале Лав возникала за стеклом, покрытая дрожащими капельками испарений, как на папоротнике в жарких комнатах, глаза у нее были цвета папоротника, тронутого коричневинкой, и очень походили на его собственные, хотя едва ли он подозревал об этом. В первые встречи он чувствовал не более чем легкое колыхание волос, когда она кивала головой, подрагивание кожи, которой он словно бы касался. Она поднималась по ступенькам старой каменной лестницы, задерживаясь на замшелом пороге. Иногда листья-монстеры обращали ее в рассеянный свет. И только он один знал, что нужно сделать, чтобы она появилась снова. Бывало, ее губы оказывались совсем рядом, когда он лежал в саду, на сдобренной высохшим навозом земле, среди запаха гниения. Она не была реальной, не могла быть реальной. Нет. Ему еще предстояло ее сотворить. Но была одна вещь, которая настораживала. Физические проявления.
Мадж говорила:
— У меня руки потрескались, нужно спросить мистера Тодда. Проще поговорить с аптекарем, врачи слишком заняты, чтобы уделить тебе внимание.
И у Лав выступила экзема. Клэй вначале смотреть на нее не мог. Как она сидела за маленьким столиком и принимала пятнадцать разных лекарств, пожирала таблетки, как поросенок, и хотя Лав улыбалась, все равно это было грустно. Болячки стали покрываться струпьями. Он не мог себя заставить подойти к ней. Да и запах. Множество ночей Клэй не мог написать ни слова. Или, точнее, несколько ночей подряд он писал:
«…засыхающая умирающая…»
Прислушиваясь, он слышал шелест пилюль Лав, колыхание единственной в саду бесплодной финиковой пальмы, скрип кровати, в которой ворочалась Мадж.
И тогда его охватывал панический страх, что дом на подпорках вот-вот рухнет. Он такой гнилой, такой иссохший. Но Клэй не мог быстро вскочить из-за стола — не то разлетятся листы бумаги. Плеща по полу спадающими шлепанцами, он плыл к двери.
Но подойти к ней не мог, потому что Лав, тут только он это и обнаруживал, поворачивала в двери ключ и прятала его на груди.
Она подошла и сказала:
— Фигу тебе!
И села к нему на колени, а он свободной рукой начал снова писать, впервые после многих бесплодных ночей:
«Наконец-то жизнь больше не сковородка с гренками и пошла как по маслу».
— Ура! — воскликнула Лав. — Что значит образованный парнишка! Честное слово, Клэй, писать, должно быть, очень-очень приятно, особенно когда только одна рука занята.
Она смеялась и смеялась. Когда его одолевали сомнения. Неужели все другие, кроме тебя самого, на одно лицо? Ему хотелось пойти взглянуть на свадебную фотографию и проверить, но эта темень, эта лестница! Слышно было только, как во сне дышит с присвистом Мадж. Конечно же, Мадж сказала за завтраком:
— Все одно. Что б ни твердил тебе торговец, все только чтобы сбыть свой товар.
Но Лав сказала:
— Большая разница, Клэй, как между апельсином и гранатом. А ты и вовсе не такой, как все. Уж я-то лизнула сливок твоей гениальности.
Она действительно порой была словно кошечка, свернувшаяся в клубок у него на коленях, но притом появлялась и исчезала мгновенно, как открывается и закрывается складной ножик.
— Так бы и съела тебя, — продолжала она, обнажив свои острые зубки, а он-то думал, что они у нее широкие и редкие, как у матери или Мадж.
Хотя он и был напуган, правой свободной рукой он написал:
«Никому кроме себя самого не доверю опасной бритвы…»
Лав заглянула в написанное.
— Револьвера, — сказала она. — Я — это револьвер.
Он забыл о ней и продолжал писать, что надлежало:
«…Лав сидит у меня на коленях пахнет надкушенной морковкой…»
— Кусни-кусни-кусни его за палец! — сказала Лав. — А ну-ка, хоть что-нибудь на букву «ка»!
— А-а-а! — заплакала «ка», — д-д-дорогая, д-д-добрая Лав!
— Это еще откуда тут взялась «дэ»? — воскликнула Лав.
— Никакой «дэ» нет и в помине, она еще не родилась, — ответил Клэй. — Можешь быть уверена, ее и не будет. Вот «а», так та спит. Но я не «а», увы, — вздохнул он.
Ему вдруг захотелось быть «а».
Он увидел, что он с Лав с глазу на глаз, даже ресницы их сомкнулись, объединившись против переполняющей сердце печали. И они излились друг в друга.
Когда Клэй заканчивал свои бдения, глубокой ночью, он переживал в своей одинокой комнатушке великую боль, потому что Лав улетучивалась, и только чернила на пальцах напоминали о том, что она здесь была.
Ему не оставалось ничего другого, как идти к Мадж, на родительское ложе, в неуверенности, что он поднимется с него на другое утро. Ему было холодно-холодно.
Мадж повернулась к нему и сказала:
— Клэй, я поругалась с мистером Тезорьеро из-за турнепса. Сказала ему: как вы можете рассчитывать, что у вас будут покупать такие дохлые овощи.
Но Клэй уже спал; в то утро он и в самом деле, впервые за много лет, не поднялся с постели, когда по дому разнеслись металлические трели будильника.
Клэй Скеррит продолжал ходить на таможню. К нему уже там привыкли, привыкли даже к его длинным патлам.
Когда Клэю вздумалось как-то раз наведаться к мистеру Мак-Джилливри, его встретил там какой-то молоденький итальяшка:
— Нет его! Нет! Мак-Джилливри помер. Когда ж это будет-то? Лет пять назад. Или шесть.
И Клэй ушел.
То, что это должно было когда-нибудь случиться с Мак-Джилливри, вполне естественно. Неестественно было все вокруг. Эти притворщики-дома. Этот вспученный асфальт.
И он увидел тонкий каблучок, застрявший в трещине, который пытались выдернуть. Увидел обладательницу. Увидел. Увидел.
Она обернулась и сказала:
— Да, хорошо вам. На низких каблуках. Проваливай.
И продолжала выдергивать каблук.
— Но, Лав! — Он протянул к ней руки.
На ней был свитер из медовых сот.
— Ну! — сказала она и рассмеялась.
— Значит, ты так вот?
— Да, вот так!
У него дрожали руки, ее можно было ухватить за серенький цвета овсянки свитер.
— Вот еще не хватало стоять тут болтать посреди Военной Дороги с каким-то патлатым кретином. Хотя бы даже и с тобой!
— Давай говорить разумно!
— Что значит разумно?
Он не мог объяснить ей этого. Как если б она спросила, что такое любовь.
— Ты что, знать меня не желаешь? — спросил Клэй.
— Я тебя знаю, — ответила она с той безразличной точностью, с какой катер пришвартовывает к причалу. — Мне надо идти.
И продолжала крутить каблук.
— Я ведь шел за чем-то, — припомнил Клэй. — Что же это такое было? Может, семечки для попугая?
— Может, моя тетка Фанни?
Она выдернула, наконец, каблук, асфальт треснул и осел ровными шуршащими клочьями черной бумаги.
Если б только он мог объяснить, что любовь нельзя объяснить.