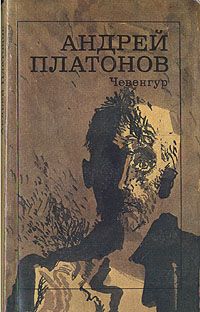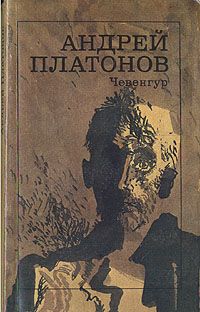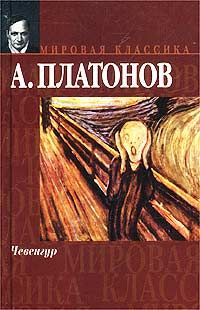Копенкин сразу положил ему конец:
– Говори, будешь народ смущать? Будешь народ на Советскую власть подымать? Говори прямо – будешь или нет?
Плотников понял характер Копенкина и нарочно нахмурился опущенным лицом, чтобы ясно выразить покорность и добровольное сожаление о своих незаконных действиях.
– Не, боле никогда не буду – напрямки говорю.
Копенкин помолчал для суровости.
– Ну, попомни меня. Я тебе не суд, а расправа: узнаю – с корнем в момент вырву, до самой матерной матери твоей докопаюсь – на месте угроблю... Ступай теперь ко двору и считай меня на свете...
Когда Плотников ушел, рябой ахнул и заикнулся от уважения.
– Вот это, вот это – справедливо! Стало быть, ты власть!
Копенкин уже полюбил рябого Федора за его хозяйственное желание власти: тем более и Дванов говорил, что Советская власть – это царство множества природных невзрачных людей.
– Какая тебе власть? – сказал Копенкин. – Мы природная сила.
* * *
Дванову городские дома показались слишком большими: его глазомер привык к хатам и степям.
Над городом сияло лето, и птицы, умевшие размножиться, пели среди строений и на телефонных столбах. Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции, и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы; ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан. Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным поселением, освещенным летним светом.
Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала – на базе губпродкома – висела сырая вывеска с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано:
«ПРОДАЖА ВСЕГО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ. ДОВОЕННЫЙ ХЛЕБ, ДОВОЕННАЯ РЫБА,СВЕЖЕЕ МЯСО, СОБСТВЕННЫЕ СОЛЕНИЯ».
Под вывеской малыми буквами была приписана фирма: «Ардулянц, Ромм, Колесников и Кo».
Дванов решил, что это нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое: прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмена, вежливых приказчиков вместо агентов продбаз и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов.
– Это тебе не губраспред! – сочувственно сказал какой-то созерцатель торговли. Дванов ненавистно оглянулся на него. Человек не смутился такого взгляда, а, напротив, торжественно улыбнулся: что, дескать, следишь, я радуюсь законному факту!
Целая толпа людей стояла помимо покупателей: это были просто наблюдатели, живо заинтересованные отрадным происшествием. Их имелось больше покупателей, и они тоже косвенно участвовали в торговле. Иной подходил к хлебу, отминал кусочек и брал его в рот. Приказчик без возражения ожидал дальнейшего. Любитель торговли долго жевал крошку хлеба, всячески регулируя ее языком и глубоко задумавшись; потом сообщал приказчику оценку:
– Горчит! Знаешь – чуть-чуть! На дрожжах ставите?
– На закваске, – говорил приказчик.
– Ага – вот: это и чувствуется. Но и то уж – размол не пайковый и пропечен по-хозяйски: говорить нечего!
Человек отходил к мясу, ласково щупал его и долго принюхивался.
– Что, отрубить, что ль? – спрашивал торговец.
– Я гляжу, не конина ли? – исследовал человек. – Да нет, жил мало, и пены не видать. А то, знаешь, от конины вместо навара пена бывает: мой желудок ее не принимает, я человек болящий...
Торговец, спуская обиду, смело хватал мясо:
– Какая тебе конина?! Это белое черкасское мясо – тут один филей. Видишь, как нежно парует – на зубах рассыпаться будет. Его, как творог, сырым можно кушать.
Удовлетворенный человек отходил к толпе наблюдателей и детально докладывал о своих открытиях.
Наблюдатели, не оставляя постов, сочувственно разбирали все функции торговли. Двое не вытерпели и пошли помогать приказчикам – они сдували пыль с прилавков, обметали пером весы для пущей точности и упорядочивали разновески. Один из этих добровольцев нарезал бумажек, написал на них названия товаров, затем приделал бумажки к проволочным ножкам, а ножки воткнул в соответствующие товары; над каждым товаром получилась маленькая вывесочка, каковая сразу приводила покупателя в ясное понимание вещей. В ящик пшена доброволец вонзил – «Просо», в говядину – «Парное мясо от коровы» и так далее, соответственно более нормальному толкованию товаров.
Его друзья любовались такой заботой. Это были родоначальники улучшателей государственных служб, опередившие свое время. Покупатели входили, читали – и верили надписанному товару больше.
Одна старушка вошла в лавку и долго оглядывала помещение. Голова ее дрожала от старости, усиленной голодом, сдерживающие центры ослабли – и из носа и глаз точилась непроизвольная влага. Старушка подошла к приказчику и протянула ему карточку, зашитую на прорехах суровыми нитками.
– Не надо, бабушка, так отпустим, – заявил приказчик. – Чем ты питалась, когда твои дети мёрли?
– Ай дождались? – тронулась чувством старуха.
– Дождались: Ленин взял, Ленин и дал.
Старуха шепнула:
– Он, батюшка, – и заплакала так обильно, словно ей жить при такой хорошей жизни еще лет сорок.
Приказчик дал ей ломоть пропеченного хлеба на обратную дорогу, покрывая грехи военного коммунизма.
Дванов понял, что это серьезно, что у революции стало другое выражение лица. До самого его дома больше лавок не встретилось, но пирожки и пышки продавали на каждом углу. Люди покупали, ели и говорили о еде. Город сытно пировал. Теперь все люди знали, что хлеб растет трудно, растение живет сложно и нежно, как человек, что от лучей солнца земля взмокает пόтом мучительной работы; люди привыкли теперь глядеть на небо и сочувствовать земледельцам, чтобы погода шла нужная, чтобы снег таял враз и вода на полях не застывала ледяной коркой: это вредно озимым. Люди обучились многим неизвестным ранее вещам – их профессия расширилась, чувство жизни стало общественным. Поэтому они нынче смаковали пышки, увеличивая посредством этих пышек не только свою сытость, но и уважение к безымянному труду: наслаждение получалось двойное. Поэтому люди, принимая пищу, держали подо ртом руку горстью, чтобы в нее падали крошки, – затем эти крошки также съедались.
По бульварам шли толпы, созерцая новую для них самих жизнь. Вчера многие ели мясо и ощущали непривычный напор сил. Было воскресенье – день почти душный: тепло летнего неба охлаждал лишь бредущий ветер из дальних полей.
Иногда около зданий сидели нищие и сознательно ругали Советскую власть, хотя им прохожие подавали деньги как признакам облегчения жизни: за последние четыре года в городе пропали нищие и голуби.
Дванов пересекал сквер, смущаясь массы людей, – он уже привык к степной воздушной свободе. Ровно с ним шла некоторое время девушка, похожая на Соню, – такое же слабое милое лицо, чуть жмурящееся от впечатлений. Но глаза этой девушки были более темными, чем у Сони, и замедленными, точно имели нерешенную заботу, но они глядели полуприкрытыми и скрывали свою тоску. «При социализме Соня станет уже Софьей Александровной, – подумал Дванов. – Время пройдет».
Захар Павлович сидел в сенях и чистил ваксой детские развалившиеся башмаки Александра, чтоб они были дольше целы для памяти. Он обнял Сашу и заплакал, его любовь к приемному сыну все время увеличивалась. И Дванов, держа за тело Захара Павловича, думал: что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями?
Вечером Дванов пошел к Шумилину; рядом с ним многие шагали к возлюбленным. Люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали – жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь.
Шумилин ел обед и посадил есть Дванова.
Будильник работал на обеденном столе, и Шумилин про себя завидовал ему: часы всегда трудятся, а он прерывает свою жизнь на сон. А Дванов времени не завидовал – он чувствовал свою жизнь в запасе и знал, что успеет обогнать ход часов.
– Пище вариться некогда, – сказал Шумилин. – Пора уж на партсобрание идти... Ты пойдешь иль умней всех стал?
Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется.
– Слышал, слышал, – проговорил Шумилин. – Тебя послали, чудака, поглядеть просто – как и что. А то я все в документы смотрю – ни черта не видно, – у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...