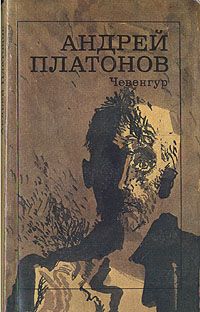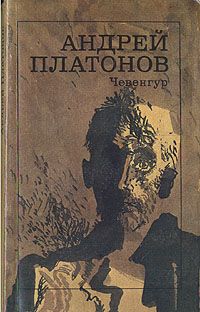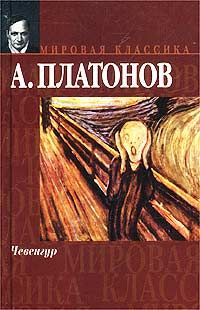Партийные люди не походили друг на друга – в каждом лице было что-то самодельное, словно человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами. Из тысячи можно отличить такое лицо – откровенное, омраченное постоянным напряжением и немного недоверчивое. Белые в свое время безошибочно угадывали таких особенных самодельных людей и уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением.
Газ дыханий уже образовал под потолком зала как бы мутное местное небо. Там горел матовый электрический свет, чуть пульсируя в своей силе, – вероятно, на электрической станции не было цельного приводного ремня на динамо, и старый, изношенный ремень бил сшивкой по шкиву, меняя в динамо напряжение. Это было понятно для половины присутствующих. Чем дальше шла революция, тем все более усталые машины и изделия оказывали ей сопротивление – они уже изработали все свои сроки и держались на одном подстегивающем мастерстве слесарей и машинистов.
Неизвестный Дванову партиец внятно бормотал впереди, наклонив голову и не слушая оратора.
Гопнер глядел отвлеченно вдаль, унесенный потоком удвоенной силы – речью оратора и своим спешащим сознанием. Дванов испытывал болезненное неудобство, когда не мог близко вообразить человека и хотя бы кратко пожить его жизнью. Он с беспокойством присмотрелся к Гопнеру, пожилому и сухожильному человеку, почти целиком съеденному сорокалетней работой; его нос, скулья и ушные мочки так туго обтянулись кожей, что человека, смотревшего на Гопнера, забирал нервный зуд. Когда Гопнер раздевался в бане, он, наверное, походил на мальчика, но на самом деле Гопнер был стоек, силен и терпелив, как редкий. Долгая работа жадно съедала, и съела, тело Гопнера – осталось то, что и в могиле долго лежит: кость да волос; жизнь его, утрачивая всякие вожделения, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание, которое засветило глаза Гопнера позднею страстью голого ума.
Дванов вспомнил про свои прежние встречи с ним. Когда-то они много беседовали о шлюзовании реки Польного Айдара, на которой стоял их город, и курили махорку из кисета Гопнера; говорили они не столько ради общественного блага, сколько от своего избыточного воодушевления, не принимавшегося людьми в свою пользу.
Оратор говорил сейчас мелкими простыми словами, в каждом звуке которых было движение смысла; в речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный.
Один партиец, соседний Дванову, равнодушно сообщил в залу:
– Обтирочных концов нету – лопухи заготовляем!..
Электричество припогасло до красного огня – это по инерции еще вращалась динамо-машина на станции. Все люди поглядели вверх. Электричество тихо потухло.
– Вот тебе раз! – сказал кто-то во мраке.
В тишине было слышно, как громко ехала телега по мостовой и плакал ребенок в далекой комнате сторожа.
Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота – о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Гопнер тоже не знал: подожди, сказал он Фуфаеву, если ремень сошьют на станции, тогда докладчик тебе скажет.
Электричество загорелось: на электрической станции привыкли устранять неполадки почти на ходу машин.
– Свободная торговля для Советской власти, – продолжал докладчик, – все равно что подножный корм, которым залепится наша разруха хоть на самых срамных местах...
– Понял? – тихо спросил Фуфаев у Гопнера. – Надо буржуазию в местный оборот взять – она тоже утильный предмет...
– Во-во! – расслышал и Гопнер, почерневший от скрытой слабости.
Оратор приостановился:
– Ты что там, Гопнер, зверем гудишь? Ты не спеши соглашаться – для меня самого не все ясно. Я вас не убеждаю, а советуюсь с вами – я не самый умный...
– Ты – такой же! – громко, но доброжелательно определил Гопнер. – Дурей нас будешь – другого поставим, будь мы прокляты!
Собрание удовлетворенно засмеялось. В те времена не было определенного кадра знаменитых людей, зато каждый чувствовал свое собственное имя и значение.
– А ты слова тяни на нитку и на нет своди, – еще раз посоветовал оратору Гопнер, не поднимаясь с места.
С потолка капала грязь. Из какой-то маленькой разрухи вверху с чердака проходила мутная вода. Фуфаев думал, что напрасно умер его сын от тифа – напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь.
Вдруг Гопнер позеленел, сжал сухие обросшие губы и встал со стула.
– Мне дурно, Саш! – сказал он Дванову и пошел с рукой у рта.
Дванов вышел за ним. Наружи Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену.
– Ты ступай дальше, Саш, – говорил Гопнер, стыдясь чего-то. – Я сейчас обойдусь.
Дванов стоял. Гопнера вырвало непереваренной черной пищей, но очень немного.
Гопнер вытер реденькие усы красным платком.
– Сколько лет натощак жил – ничего не было, – смущался Гопнер. – А сегодня три лепешки подряд съел – и отвык...
Они сели на порог дома. Из зала было распахнуто для воздуха окно, и все слова слышались оттуда. Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли. Против горсовета находилась конюшня пожарной команды, а каланча сгорела два года назад. Дежурный пожарный ходил теперь по крыше горсовета и наблюдал оттуда город. Ему там было скучно – он пел песни и громыхал по железу сапогами. Дванов и Гопнер слышали затем, как пожарный затих – вероятно, речь из зала дошла и до него.
Секретарь губкома говорил сейчас о том, что на продработу посылались обреченные товарищи, а наше красное знамя чаще всего шло на обшивку гробов.
Пожарный недослышал и запел свою песню:
Лапти по пόлю шагали,
Люди их пустыми провожали...
– Чего он там поет, будь он проклят? – сказал Гопнер и прислушался. – Обо всем поет – лишь бы не думать... Все равно водопровод не работает: зачем-то пожарные есть!
Пожарный в это время глядел на город, освещенный одними звездами, и предполагал: что бы было, если б весь город сразу загорелся? Пошла бы потом голая земля из-под города мужикам на землеустройство, а пожарная команда превратилась бы в сельскую дружину, а в дружине бы служба спокойней была.
Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать втемную – сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверно, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать.
– Скажи пожалуйста! – убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек. – Без него не знали: торговля, товарообмен да налог! Да оно так и было: и торговля шла сквозь все отряды, и мужик разверстку сам себе скащивал, и получался налог! Верно я говорю иль я дурак?..
Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражения:
– Нет, ты дурак! Неужели ты думаешь, что Ленин глупей тебя: скажи пожалуйста!
Человек явно мучился. Пожарный на крыше снова запел, не чувствуя, что под ним происходит.
– Какая-то новая экономическая политика! – тихо удивлялся человек. – Дали просто уличное название коммунизму! И я по-уличному чевенгурцем называюсь – надо терпеть!
Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них:
– Скажите мне, пожалуйста: вот у меня коммунизм стихией прет – могу я его политикой остановить иль не надо?
– Не надо, – сказал Дванов.
– Ну, а раз не надо – о чем же сомнение? – сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, – шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, – со слабым носом на лице.
Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании.
– Откуда ты такой явился? – спросил Гопнер.
– Из коммунизма. Слыхал такой пункт? – ответил прибывший человек.
– Деревня, что ль, такая в память будущего есть? Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.
– Какая тебе деревня – беспартийный ты, что ль? Пункт есть такой – целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там был, пока что, председателем ревкома.
– Чевенгур от Новоселовска недалеко? – спросил Дванов.
– Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец.
– Чему ж конец-то? – недоверчиво спрашивал Гопнер.
– Да всей всемирной истории – на что она нам нужна?
Ни Гопнер, ни Дванов ничего дальше не спросили. Пожарный мерно гремел по откосу крыши, озирая город сонными глазами. Петь он перестал, а скоро и совсем затих – должно быть, ушел на чердак спать. Но в эту ночь нерадивого пожарного застигло начальство. Перед тремя собеседниками остановился формальный человек и начал кричать с мостовой на крышу: