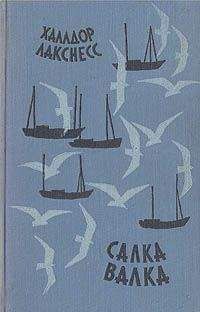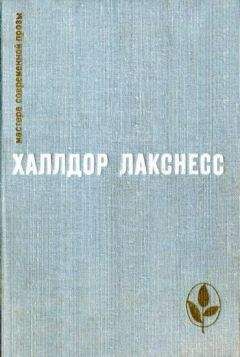Ничего подобного до сего часа Салке Валке не приходилось переживать; человек доверчиво и покорно кладет свою жизнь к ее ногам. На мгновение она забыла все прошлое, забыла, где она, что с ней. Цепь событий растворилась и исчезла из ее сознания. Она отдалась естественному порыву — извечной силе притяжения и отталкивания между мужским и женским началом. Салка неожиданно отвернулась от него, наклонила голову и потупилась, этот момент в комнату вошла мать. Но их лицам Сигурлина тотчас заметила, что между ними что-то произошло. Задержавшись на пороге, она пристально смотрела на них. Девочка смущенно повернулась и поспешно удалилась к себе на чердак. Мужчина поднялся, отыскивая глазами кепку. Ему было пора уходить. Сигурлина осталась одна.
Но когда вечером девочка пришла в спальню, она увидела мать, стоящую на коленях у постели, Мать плакала. Девочка ничего не сказала. Ее теперь уже не волновали слезы матери. К слезам привыкаешь, как и ко всему остальному. Девочка молча начала раздеваться. Женщина подняла на нее затуманенные слезами глаза.
— Сальвор, — простонала она. — Сжалься, не отнимай его у меня. У меня ничего не осталось, только одна надежда, что он будет со мной. Я так горячо молила Иисуса вернуть его мне. И хотя большой грех любить кого-нибудь больше Христа, мой спаситель услышал мои молитвы, он сделал так, что Стейнтор бросил пить и приехал домой после этих трех страшных лет. Салка, любимая Салка! Ты же когда-то была моим дитятей. Сжалься надо мной, не отнимай его у меня!
Два дня спустя в Марарбуде появился пастор. Был вечер. Стейнтор сидел на кухне. Сигурлины не было дома, она ушла загонять овец. Пастор поздоровался, призывая на помощь бога и апостолов. Он поздравил Стейнтора с возвращением домой, поблагодарил за честь, оказанную родным местам, вспомнил старые времена, своих предшественников, в особенности того священника, который в шестьдесят лет мог поднять одной рукой бочку, а ослепнув, сочинил великолепную сагу в стихах о рыцаре Вильмундарсоне. Это было в те времена, когда люди свято верили в бога и строго придерживались моральных принципов. Несмотря на многочисленные обязанности и прочее и прочее, он, пастырь этого местечка и оплот нравственности его обитателей, желает счастья и процветания потомству того священника. Главная его забота — спасение душ своих прихожан в этом мире и в будущем…
— Что же я еще хотел сказать, сказать, а не молчать, как говорит апостол? Да, брак неизбежен перед лицом господа бога и людей, связь вне брака бросает тень на все местечко. Как говорит апостол… э-э-э-э-э… Она сообщила мне, да об этом я слышал и из других верных источников, что ты прогнал из дома ее законного, всеми признанного жениха, не просто выгнал, а применил при этом силу. Ты опозорил его перед всем светом.
Это можно оправдать лишь в том случае, если ты свяжешь себя с ней святыми узами, которых ты уже однажды избежал, спасшись бегством, несмотря на мои увещания я советы. Конечно, ее могут взять на содержание прихода, но брак есть брак, ответственность есть ответственность, а содержание есть содержание. Брак всего лишь незначительная уступка, на которую идут благородные люди. Иначе она может привлечь тебя к ответственности за то, что ты так поступил с Йокимом, Каждый честный человек должен нести ответственность перед богом и людьми. Это азбучные истины христианской морали, человеческих законов. Не будь этой ответственности, наше местечко давным-давно скатилось бы к язычеству. Самое разумное было бы оставить ее в покое и дать возможность ей выйти замуж за примерного, благочестивого человека.
Стейнтор ответил резко, но без прежней заносчивости:
— Ты прекрасно знаешь, пастор, с кем ты имеешь дело. Я родился здесь, в Осейри, на этом берегу, точь-в-точь как рождается дьявольский шум океанского ветра. Не станешь же ты читать проповедь об ответственности океанскому ветру? Кто я? Ветер, который то налетает, то стихает. Воздух, который я выдыхаю из своих ноздрей, это ветер, гуляющий здесь по берегу. А кровь, которая течет в моих жилах, это волны, которые то вздымаются, то опускаются. В этом-то и состоит человеческая жизнь как у нас здесь, так и в тех местах, которые я повидал, странствуя по свету. Самым правильным я считаю нести ответственность перед самим собой. Был бы мальчик жив, я женился бы па ней, потому что он был частью моего дыхания, частью крови, пульсирующей в моих жилах. Но ребенок отправился в долгий путь, скоро и я последую его дорогой…
— После смерти наступает суд, говорит апостол.
— Ну, уж если я не имею права быть мертвым даже после смерти, пропади тогда все пропадом.
Слуга господень, видимо, давно вышел из того возраста, когда подобные речи могли смутить его.
— Что поделаешь, — продолжал он. — Ты еще доживешь до того дня, когда я уже не буду вмешиваться в то, что происходит здесь. Небеса господни над поселком…
— Хороши были небеса в этом сезоне! — перебил его Стейнтор.
— До тех пор, пока я дышу, я останусь скромным слугой господа бога, вручившего мне заботу о душах в этом заброшенном, бедном, спрятанном за горами поселке. Это он поддерживает меня в моем призвании, охраняет в дальних и трудных переходах через горы, в частых опасных поездках по морю, когда мне приходится посещать прихожан в округе… Что же я еще собирался сказать? Сказать, а не молчать, как говорит господь… Если у тебя память не коротка, ты должен помнить, что три года назад, убегая отсюда, ты оставил за собой грешок. Милостивый бог простил тебя, и не будем вспоминать об этом, так как милость господня дается навечно… Да, о чем, бишь, я говорил? О да. Два набожных человека из нашего поселка, которых вызвали тотчас после твоего бегства, показали на тебя судье, и если бы такая незначительная особа, как я, не приостановила бы дальнейший ход дела, то в тот же день тебя схватили бы в Хаммарсфьорде, и не избежать бы нашему бедному приходу позорного судебного дела. Но, как говорит апостол… э-э-э-э-э… Я помню тебя еще на школьной скамье. Видя твое бегство, я понял: ты не конченый человек. Ты осознал, что натворил. Зная всю подноготную своих прихожан и что у кого лежит на совести, я мог легко догадаться, что в изгнании господь бог станет внушать твоей душе, и я знал — это будет достаточным наказанием для тебя. Как видишь, я оказался прав. Ты вернулся домой, стал во многих отношениях лучше. Ты сбросил с себя основное бремя грехов, хотя за тобой осталось еще немало. Один из них — непослушание святому слову господнему… Да, как я уже сказал, мы отвратили друг от друга горькую чашу судебного наказания. Признаюсь, вначале я не совсем дружелюбно относился к матери твоего ребенка, потому что в мою обязанность входит охрана своей паствы от людей, ни с того ни с сего приезжающих сюда с детьми на руках и пустым карманом. Но женщину приютили добрые люди, хотя не могу сказать, чтобы мой друг Эйольфур регулярно посещал церковь. Но он открыл ей доступ в единственно истинную церковь без всяких оговорок. Я знаю, она верит в спасение, которое посылает Иисус Христос, и если она время от времени совершает грех, посещая эти легкомысленные суетные собрания Армии спасения, то я утешаю себя мыслью, что господь бог меньше придает значения этим посещениям, чем вере тех, кто туда ходит.
— Могу я предложить вам чашечку кофе, пастор? — спросила старая Стейнун и, не видя конца речам его, добавила: — Уж если наш почтенный пастор говорит что-нибудь, то это всегда добрые и разумные слова.
— Ну, что же ты мне ответишь, мой дорогой Стейнтор? — спросил пастор. — Согласимся ли мы на священный брак и забудем о прошлом или же мы откажемся от всего и пусть нас рассудят бог и люди?
— Если тебе все это нажужжала Сигурлина, то пусть она сама и ответит. Что же касается бога, то я никогда не предъявлял ему никаких требований и не вижу причин, чтобы он предъявлял их мне. Тебе же я, пастор, скажу — ты всегда был и остался смертельно скучным болтуном; пожалуй, другого такого я еще не встречал в своей жизни.
На этом они расстались.
Приближалась страстная неделя.
В субботу с Юга прибыл почтовый пароход, и когда Салка Валка вернулась из школы, в кухне на столе ее ждало письмо. Настоящее письмо, такое, какие получает Йохан Богесен, в голубом конверте, и адрес выведен по всем правилам, с росчерком и завитушками. «Фрекен Сальвор В. Йоунсдоттир. Марарбуд. Осейри у Аксларфьорда», — стояло на конверте. На марке был изображен король, только незадачливый почтмейстер умудрился прямо на нос ему поставить черное пятно. Как зарделась девочка, как радостно забилось ее сердце — первый раз в жизни она держит в руках запечатанный конверт, присланный из-за границы на ее имя! Она долго рассматривала его, поворачивала во все стороны, не решаясь вскрыть.
Внутри конверта оказалась фотография величиной с открытку. На ней был юноша с правильным, продолговатым лицом, хорошо очерченными губами и выразительным взглядом красивых глаз, которые, вероятно от сознания, что находятся перед объективом, стали еще выразительнее и мечтательнее. Воротничок сорочки был почти такой же отутюженный, как у учителей, священников и заграничных дельцов, чьи фотографии время от времени появляются в столичных газетах. Снят юноша был на фоне летающих птичек. На обороте было написано таким же красивым, грамотным почерком, что и на конверте: