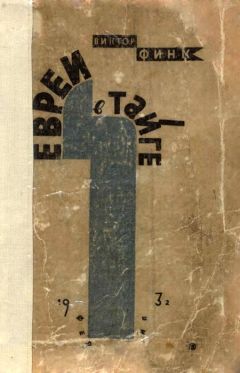Я был на этом съезде. Он заседал в большом новоотстроенном доме. Стены были обиты лозунгами на четырех языках. Плакаты были написаны по-еврейски, по-корейски и по-китайски.
Все перемешалось в великолепном вихре нашей эпохи! Вот социализм строится в краю, где ревут медведи, а строят его евреи из местечка и монголы из тайги.
Незадолго до съезда в Тихонькой появился какой-то чудодей, — он взялся в три дня оборудовать электрическое освещение. Ему предоставили поломанный трактор, он его починил, а потом мы видели, как этот человек карабкался на столбы и деревья, протягивал провода и укреплял лампочки. В день открытия съезда в Тихонькой сверкало электричество. Вокруг лампочек роились бабочки и комары и стояли изумленные люди. Люди были изумлены могуществом человеческого разума, который умеет так хорошо освещать тьму. Еще больше изумляло, что ясный свет пришел именно сюда и горит в этой темной деревне.
Я ходил на заседания съезда. Переводчикам там была работа: корейцы, китайцы и евреи говорили каждый на своем языке.
— Надо проложить дороги, — говорили делегаты. — Нужны школы. — Нужны больницы. — Нужны ветеринарные пункты. — Нужно побольше тракторов.
Тайга едва проснулась от тысячелетнего сна, я вот сразу стали ее мучить тысячи вожделений. Все сделалось нужно.
Итак, Тихонькая — город! Центр Биробиджанского района!.. Будущая еврейская столица!
И вот уже в Тихонькой тесно, свирепствует жилищный кризис, куда ни войдешь — всюду занято, всюду живут. Построилось с прошлого года несколько неплохих домов, но там уже живут по пять человек в комнате. Казаки смекнули, в чем дело, и в Тихонькой почти московские цены на комнаты. Дед, похожий на лесную шишигу, просит 4 рубля за десяток яиц и сокрушается: он слыхал от людей, что в Новосибирске 8 рублей платят люди, если яйца хорошие. Отсюда до Новосибирска неделя езды. Дед отдает яйца за четыре рубля с видом человека, у которого погибла жизнь: он бы смотался в Новосибирск пешком, да вот ноги, гудут. Это непоправимо.
Я опять немало изъездил по Биробиджану и на колесах, и верхом, и исходил пешком немало. Ружье охотника снова заводило меня в лесные дебри, а записная книжка журналиста толкала в гущу человеческих взаимоотношений. Я постараюсь подробно описать все, виденное в этот приезд, отдельно и более или менее подробно. Сейчас скажу только в этой краткой приписке: много ошибок, совершенных в 1928 г., уже исправлено. Во-первых, введено колхозное землепользование и к тому же — на основе сплошной коллективизации. Кончились мелкие местечковые компанейства по 2–3 человека. Коллективизация— сплошная. Исправлена и другая значительная ошибка: кучки переселенцев, разбросанные по всему Биробиджану по 5–6 семейств в одном месте, стянуты и включены в крупные колхозы. В 1930 году в Биробиджане было четыре еврейских крупных с.-х. коллектива в четырех населенных пунктах — Амурзет, Бирефельд, Вальдгейм, Икор. Проведение телефона и улучшение дорог значительно облегчили связь между колониями и управление ими.
Колхозы живут напряженной хозяйственной жизнью, — работают, строятся, отбирают у тайги и у болот все большие и большие пространства. В 1930 г. всего было вспахано земель в Биробиджане 35 тыс. га. Полезно прибавить, что до советской колонизации казаки успели поднять здесь за 70 лет всего 14 тыс. га.
В 1930 г. приступили к работе совхозы: Биробиджанский зерносоевый на площади около 75000 га; рисовый, имеющий 1500 га; молочно-огородный вблизи ст. Покровка, имеющий 3 500 га, и Амуро-Бирский скотоводческий. Наркомзем Союза наметил организацию здесь еще 14 различных совхозов, общей площадью в 760 000 га. Осенью 1930 г. из этого числа приступили к работе колхозы — свиноводческий и птицеводческий. А на 1931/32 г. намечено вложение в строительство Биробиджана 20 миллионов рублей.
Организованы три машино-тракторные станции. Работает крупный деревообделочный комбинат в селе Николаевке. Работает целый ряд крупных производственных артелей и, — что важней всего, — завод стандартных домов.
В значительной степени переменился и состав новоприбывающих переселенцев: видно, и на местах немного одумались и перестали посылать сюда немощных стариков и старух. Сейчас в Биробиджан едет еврейский молодняк. Можно сказать, Биробиджан — страна еврейской молодежи.
Многих, кого я помнил с прошлого года, я не застал. И хорошо: произошел отсев, естественный отбор. Я не застал, например, никого из той слякоти, с которой ездил в Биракан покупать дом.
Но те, которые перезимовали, переменились в значительной степени: у евреев в Биробиджане обветренные лица и суровый блеск в глазах.
Еще не все гладко в жизни Биробиджана, еще много трудностей лежит на плечах переселенцев. Еще не изжита и вся неорганизованность. Но перелом наступил. Главы, в которых я передаю рассказы Аврум-Бэра и описываю бараки, получили характер исторической справки. Так я их здесь и оставлю. Да ведают потомки!
Я писал в прошлом году, что жизнь будет. Скажу: она идет. Она есть. Да здравствует жизнь!
Я сидел в гостях у знакомого казака-охотника в Тихонькой. Были и кроме меня гости — все местные зверобои. Хозяин потчевал нас медвежиной. Он раздобыл и бутылку водки, что довольно трудно было тогда на Дальнем Востоке. Об этом и были разговоры.
— Взять бы того Чанкайшу да и к нохтю! — ворчал, разрывая кусок красного мяса, Сергей Стремянников, старый жилистый казак с большими усищами. — К нохтю — и будь здоров! Верите ли? — обратился он ко мне, — до конхликту так тут ихной водки китайской — ханшины, значит, — бывало, сколько хочешь. А сейчас как полезли они воевать, — граница, значит, усилена, и вот не поставляют, однако, китайцы.
— Давеча встретил одного, — добавил басом другой гость, Максим Ярославцев, тоже сухопарый, жилистый усач. — Знаешь? Который из Семи Балаганов…
— Хромого фазана? — перебил хозяин. — Знаю.
— Угу! Хромого! Где, говорю, твоя ханшина?
А он, — моя, говорит, китайска сторона не ходи. Вот тебе и конхликг!
В этом году к военным осложнениям присоединилось и еще одно совершенно неожиданное для казачества обстоятельство.
— Нету у бога погибели на них! — говорили казаки. — Сказано, — волос долог, ум короток.
В этом году женщины-казачки возвысили голос. Это было впервые от сотворения мира. «Бабком» потребовал закрытия лавки Госспирта. На селе сделалось очень трудно добыть водку, — разве уж из города кто привезет.
Вошел к нам в комнату еврей-переселенец, временно живущий в доме у моего охотника. Хозяин поднес и ему. Еврей выпил рюмку и мгновенно захмелел. У него опрокинулись глаза, и внезапно он стал спрашивать меня, почему такой-то товарищ, состоящий на службе в Озете, получает двести рублей в месяц.
— За то, что умеет красиво подписывать свою фамелию, а я не умею, так я сапожник, а он ответственный? Вот это значит социализм? Я вас спрашиваю! Стремянников! — обратился он к усачу. — Стремянников! Это социализм? Я говорю, слышишь, Стремянников? — я говорю, что если так, то мы вполне имеем явление демократической республики.
Все удивились, как быстро человек опьянел. Он плюхнулся в угол и замолк.
Казаки с любопытством оглядывали его: они не видали евреев, не знают их, им любопытен каждый.
За перегородкой, где живет еврейская семья, заплакал ребенок.
— Совсем еврейское дитё, как русское, плачет, — заметил Стремянников.
Ярославцев задумчиво добавил:
— Все люди по-одному, одним звуком смеются и одним звуком плачут. А живут по-разному: одни, как люди, а другие, как сволочи…
Ярославцев опрокинул здоровенную рюмку и стал обгладывать кость.
Потом разговор незаметно перешел на соболиную охоту. Стали говорить, какой это трудный промысел. В этой охоте, требующей колоссального терпения, выносливости, наблюдательности и знания тайги, никто не может тягаться с гольдами и орочами. Редко когда русские или китайцы охотятся на соболя. Русские, особенно староверы, живущие в глубоких таежных районах, до революции скупали собольи шкурки за гроши у наивных туземцев, а чаще всего выменивали.
— Они, гольды, дюже посуду медную любят, — сказал Стремянников. — Бывало, привезут им столоверы медный чан, да начищенный, чтобы блестел покрасивше! «А ну, брат Сюнцай, кидай соболей своих сюда!» Да сколь чан велик, столь соболей и заберет. Еще уминает купец кулаком, чтоб побольше влезло. «Твой чан, мои соболя!» А сам за чан пять рублей отдал, а сам за соболей тыщи наберет. Да-а! — неожиданно заключил Стремянников. — Торговый они народ, богомольный!..
Все забыли об еврее. Он сидел в углу на груде мешков и молча смотрел на нас помутневшими глазами. Однако, когда Стремянникоз закончил рассказ об оборотистых староверах, еврей воскликнул: