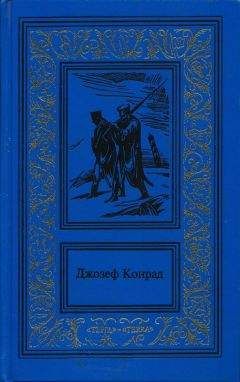V
Когда она снова открыла глаза и села, Гейст быстро вскочил и поднял ее пробковый шлем, который откатился в сторону. Она приводила в порядок распустившиеся волосы, заплетенные в две тяжелые черные косы. Он подал ей шлем, ни слова не говоря, как человек, который боится собственного голоса. Потом сказал очень тихо:
— Теперь нам лучше сойти вниз…
Он протянул руку, чтобы помочь молодой женщине подняться. Он хотел улыбнуться, но отказался от этого, увидев вблизи неподвижное лицо Лены, в котором отражалась бесконечная усталость. Чтобы вернуться к лесной тропе, им надо была снова пройти по тому месту, откуда было видно море. Эта пылающая и пустая бездна, это жидкое и волнующееся сверкание, ужасающая резкость света заставляли ее сожалеть о дружественной ночи с ее звездами, застывшими в неподвижности под какими-то суровыми чарами, о темном бархатном небе и глубокой таинственной тени моря, которая приносит покой утомленным дневною работой сердцам. Она поднесла руку к глазам. За ее спиной Гейст тихонько произнес:
— Пойдем, Лена.
Она молча шла вперед. Гейст напомнил ей, что они еще никогда не выходили в самую жаркую пору дня. Он боялся, как бы это ей не было вредно. Его заботливость обрадовала и успокоила молодую женщину. Она почувствовала, что становится понемногу самой собой: бедной лондонской девушкой, музыкантшей из оркестра, спасенной от унижений, от гнусных опасностей жалкого существования человеком, подобного которому не встречалось, не могло встретиться во всем мире. Она чувствовала это с радостью, со стыдливостью, с внутренней гордостью… и со странным сжиманием сердца.
— О, я не боюсь жары, — сказала она решительно.
— Разумеется. Но не надо забывать, что вы не тропическое растение.
— Вы тоже не родились в этих краях, — возразила она.
— Нет, и, быть может, даже не обладаю вашей бодростью. Я растение пересаженное. Пересаженное! Мне следовало бы скачать «вырванное с корнем» — состояние противоестественное, но человек способен все перенести.
Она обернулась, чтобы взглянуть на него, и увидела улыбку на его губах. Гейст посоветовал ей придерживаться лесной троны, глухой, заснувшей и удушливой, но все же наполовину затененной. Время от времени им видна была старая просека угольного общества, залитая ярким светом, со своими черными обугленными стволами, стоявшими без тени, жалкими и мрачными. Они направились прямо к бунгало. Им показалось, что они заметили на веранде мелькавшую фигуру Уанга. Впрочем, молодая женщина не была уверена в том, что видела какое-либо движение, но у Гейста не было никаких сомнений.
— Уанг поджидает нас. Мы запоздали.
| — Вы думаете, что это был он? Мне одну секунду казалось, что я вижу что-то белое, потом оно исчезло.
— Вот именно… он исчезает… это чрезвычайно удивительная особенность этого китайца.
— Они все такие? — спросила она с любопытством тревожной наивности.
— Не все с таким совершенством, — сказал Гейст.
Он с радостью заметил, что прогулка не слишком утомила его подругу. На ее лбу капельки испарины казались каплями росы на свежем лепестке цветка. Он со все возрастающим восхищением смотрел на сильный и грациозный силуэт, на крепкие и гибкие формы.
— Отдохните четверть часика, а потом мистер Уанг накормит нас, — сказал он.
Они нашли стол накрытым. Когда они вышли, чтобы сесть к столу, Уанг бесшумно материализовался, без зова, и исполнил свои обязанности. Как только они кончили есть, китайца больше не стало.
Глубокая тишина висела над Самбураном, тишина тропического зноя, который кажется наполненным мрачными предсказаниями, как сосредоточенность пламенной мысли. Гейст остался один в большой комнате и взял в руки книгу. Молодая женщина удалилась к себе. Гейст сел под портретом своего отца и ужасная клевета подкралась исподтишка к его мысли. Он снова ощутил на губах противный горький вкус, напоминавший вкус некоторых ядовитых веществ. Ему хотелось плюнуть на пол, инстинктивно, просто от отвращения, вызванного этим физическим ощущением. Но он тряхнул головой. Он больше не узнавал себя: он не имел обыкновения воспринимать таким образом умственные впечатления и переводить их в жесты телесного волнения. Он нетерпеливо подвинулся на стуле и обеими руками поднес книгу к глазам. Это было сочинение его отца. Он раскрыл его наугад, и взгляд его упал на середину страницы; Гейст-отец писал в многочисленных произведениях на всевозможные темы: о пространстве и о времени, о животных и о планетах; он анализировал мысли и поступки, улыбки и нахму ренные брови людей, гримасы их агонии. Сын читал, углубляясь в себя, изменяя выражение своего лица, как если бы оно нахо дилось под взглядом автора, очень ясно ощущая присутствие портрета справа от себя, немного повыше головы; это было странное присутствие в тяжелой раме, на подвижной стенке из циновок, с этим выражением изгнанника и в то же время вполне довольного человека, отчужденного и вместе с тем повели тельного.
И Гейст-сын прочитал:
«Изо всех ловушек, которые расставляет жизнь, самой жестокой является — утешение любви — и в то же время самой ловкой, ибо желание — ложе мечтаний».
Он перелистал маленький томик «Грозы и пыль», здесь и там останавливаясь взглядом на отрывистом тексте, состоявшем из размышлений, афоризмов, коротких фраз, загадочных слов, порою красноречивых. Ему казалось, что он слышит голос отца, который то говорил, то умолкал. Вначале пораженный, он стал находить в этом впечатлении известную прелесть и предался иллюзии, что какая-то частица его отца еще живет в этом мире: призрак его голоса, доходивший до слуха сына, который был плотью от плоти его, кровью от его крови. С каким удивительным спокойствием, смешанным со страхом, этот человек разглядывал ничтожество вселенной! Он погрузился в него головой вперед, быть может, для того, чтобы сделать более переносимой смерть — неизбежный ответ на все вопросы.
Гейст пошевелился, и призрачный голос умолк; но глаза его пробегали последнюю страницу книги:
«Люди с неспокойной совестью или с преступным воображением знают множество вещей, о которых даже не подозревают умы спокойные и покорные; и одни только поэты осмеливаются спускаться в бездны преисподней или хотя бы мечтать о такой прогулке. Самое незначительное существо человеческое сказало себе однажды: «Все лучше, чем это!»
У всех нас бывают минуты ясновидения, но они нам мало помогают. Слишком ловкая жизнь запрещает им, как и всему, что с нами соприкасается, приходить к нам на помощь. Собственно говоря, природа этой жизни бесчестна, судя по принципам, установленным ее жертвами. Она извиняет всякие протесты, как бы они ни были резки, но устраивается в то же время так, чтобы их раздавить так же, как она давит самое слепое подчинение. Так называемое зло, с тем же правом, что и так называемое добро, находит свою награду в самом себе, если только оно хочет существовать.
С ясновидением, или без него, люди любят свою зависимость. Неизведанной силе отрицания они предпочитают жалкую беспорядочность ложа рабов. Только человек способен вызывать отвращение жалости, а между тем мне приятнее верить в несча- i гие человечества, нежели в его злобность».
Этими словами заканчивалась книга. Гейст уронил ее на колени. Голос Лены, раздавшийся над его склоненной головой, заставил его вздрогнуть.
— Вы сидите так, словно вам тяжко.
— Я думал, что вы спите.
— Я лежала, это верно, но даже не закрыла глаз.
— Отдых был бы вам полезен после прогулки. Вы не пробовали уснуть?
— Я бы не смогла.
— И вы не делали ни малейшего шума? Какая неискренность! Но, может быть, вы хотите одиночества?
— Я?.. Одиночества! — прошептала она.
Гейст подметил взгляд, который она бросила на книгу, и поднялся, чтобы поставить ее на полку. Повернувшись, он увидел, что молодая женщина упала в кресло, в котором обычно сидела; казалось, что силы, внезапно покинув ее, оставили ей только трогательную юность, которая была всецело во власти ее спутника. Он быстро подошел к креслу:
— Вы устали — правда? Это моя вина. Заставить вас подняться так высоко и продержать вас так долго на воздухе! Да еще в такой душный день!
Все еще полулежа, она наблюдала за Гейстом, устремив на него еще более загадочный взгляд, чем когда-либо. Он отвел от него глаза, чтобы любоваться ее неподвижными руками и беззащитными устами. Потом ему все же пришлось вернуться к широко открытым глазам. Что-то дикое в пристальности их зрачков напомнило ему морских птиц, затерявшихся в ледяном мраке высоких широт. Он вздрогнул, услыхав голос молодой женщины, в котором внезапно прозвучало непередаваемое очарование интимности.
— Вам следовало бы попробовать полюбить меня, — сказала она.
Он сделал удивленный жест.