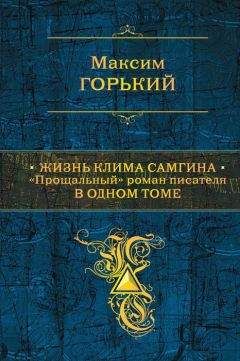«Поживу тихо, наедине с самим собою...»
Но, вспомнив, что единственным его сожителем всегда был он сам, зачеркнул одиночество.
«Дуняша будет приезжать. Изредка. Распутный ребенок. Любопытнейшие фигуры создает жизнь. И эта Зотова с ее Пропатором. Странно закончила она свою лекцию. Напрасно я раздражался против нее».
Он на другой же день сообщил ей свое решение.
– Вот и хорошо, – радушно сказала она. – Бери деньги, поезжай, кланяйся Алеше Гогину.
– Ты его знаешь?
– Ну да! Жил он здесь, месяца два, действовал. У нас ведь город эсеровский, и Алешу заклевали.
– Интересный ты человек! – искренно удивился Клим. – Как это ты объединяешь мистику и...
– Во-первых – гностицизм вовсе не мистика, а во-вторых – есть поговорка: «Большой мешок – не глиняный горшок, что ни положь умело – все будет цело, знай – носи, да не больно тряси».
– Это – любопытство Евы? , Посмеиваясь, Марина ответила:
– Ева-то одним грехом заинтересовалась, а я, может быть, – всеми...
– Любопытством не проживешь, – сказал Самгин, вздохнув, а Марина спросила:
– Пробовал?
И после этого они оба немножко посмеялись. В Москве все разыгралось очень просто. Варвара встретила, как старого знакомого, который мог бы и не приезжать, но видеть его все-таки интересно. За две недели она похудела, поблекла, глаза окружены тенями, блестят тревожно и вопросительно. Черное, без украшений, платье придает ей вид унылой вдовы. Когда Самгин сказал ей, что намерен жить в провинции, она, опустив голову, откликнулась не сразу, заставив его подумать:
«Сейчас начнется нечто неприятное, фальшивое!» Но он ошибся. Вздохнув, Варвара сказала:
– Я понимаю тебя. Жить вместе – уже нет смысла. И вообще я не могла бы жить в провинции, я так крепко срослась с Москвой! А теперь, когда она пережила такую трагедию, – она еще ближе мне.
О привязанности к Москве Варвара говорила долго, лирически, книжно, – Самгин, не слушая ее, думал:
«Была без радости любовь», но я не ожидал, что «разлука будет без печали».
И почувствовал, что «без печали» все-таки немножко обидно, тем более обидно, что Варвара начала говорить деловито и глаза ее смотрят спокойно:
– Думаю поехать за границу, пожить там до весны, полечиться и вообще привести себя в порядок. Я верю, что Дума создаст широкие возможности культурной работы. Не повысив уровня культуры народа, мы будем бесплодно тратить интеллектуальные силы – вот что внушил мне истекший год, и, прощая ему все ужасы, я благодарю его.
Самгин иронически отметил:
«Гладко говорит. Выучили, – глупее стала». Хотелось, чтоб ее речь, монотонная – точно осенний дождь, перестала звучать, но Варвара украшалась словами еще минут двадцать, и Самгин не поймал среди них ни одной мысли, которая не была бы знакома ему. Наконец она ушла, оставив на столе носовой платок, от которого исходил запах едких духов, а он отправился в кабинет разбирать книги, единственное богатство свое.
Нашел папку с коллекцией нелегальных открыток, эпиграмм, запрещенных цензурой стихов и, хмурясь, стал пересматривать эти бумажки. Неприятно было убедиться в том, как все они пресны, ничтожны и бездарны в сравнении с тем, что печатали сейчас юмористические журналы.
«Прошлое», – подумал он и, не прибавив «мое», стал разрывать на мелкие клочья памятники дешевого свободомыслия и юношеского своего увлечения.
Цесаревич Николай!
Если царствовать придется,
Так уж ты не забывай,
Что полиция дерется!
– читал Самгин и морщился, – теперь такие вещи – костюм настолько изношенный, что его даже нищему подарить было бы стыдно.
«Сотни людей увлекались этим», – попробовал он утешить себя, разрывая бумажки все более торопливо и мелко, а уничтожив эту связь свою с прошлым, ногою примял клочки бумаги в корзине и с удовольствием закурил папиросу.
Через час он сидел в квартире Гогиных, против Татьяны. Он редко встречал эту девушку, помнил ее веселой, с дурашливой речью, с острым блеском синеватых, задорных глаз. Она была насмешлива, не симпатична ему и никогда не возбуждала желания познакомиться с нею ближе. Теперь ее глаза были устало прикрыты ресницами, лицо похудело, вытянулось, нездоровый румянец горел на щеках, – покашливая, она лежала на кушетке, вытянув ноги, прикрытые клетчатым пледом. Казалось, что она постарела лет на десять. Глуховатым, бесцветным голосом чахоточной она говорила:
– Деньги – опоздали. Алексей арестован в Ростове и с ним Любаша Сомова. Вы знали Спивак? Тоже арестована, с типографией, не успев ее поставить. Ее сын, Аркадий, у нас.
– Вы нездоровы? – спросил Самгин.
– Как видите. А был такой Петр Усов, слепой; он выступил на митинге, и по дороге домой его убили, буквально растоптали ногами. Необходима организация боевых дружин, и – «око за око, зуб за зуб». У эсеров будет раскол по вопросу о терроре.
Говорила она бессвязно, глаза ее нестерпимо блестели.
– У вас, видимо, поднимается температура.
– Ничего не значит, сидите!
Самгин сказал, что он не имеет времени, – Татьяна, протянув ему руку, спросила:
– Что вы думаете делать?
– Еще не решил, – сухо ответил Самгин, торопясь уйти.
«Осталась где-то вне действительности, живет бредовым прошлым», – думал он, выходя на улицу. С удивлением и даже недоверием к себе он вдруг почувствовал, что десяток дней, прожитых вне Москвы, отодвинул его от этого города и от людей, подобных Татьяне, очень далеко. Это было странно и требовало анализа. Это как бы намекало, что при некотором напряжении воли можно выйти из порочного круга действительности.
«Из царства мелких необходимостей в царство свободы», – мысленно усмехнулся он и вспомнил, что вовсе не напрягал воли для такого прыжка.
Это было еще более странно. Чувство недоверия к прочности своего настроения волновало.
«Все в мире стремится к более или менее устойчивому равновесию, – напомнил он себе. – Действительности дан революционный толчок, она поколебалась, подвинулась вперед и теперь...»
– Здравствуйте, товарищ Самгин!
С ним негромко поздоровался и пошел в ногу, заглядывая в лицо его, улыбаясь, Лаврушка, одетый в длинное и не по фигуре широкое синеватое пальто, в протертой до лысин каракулевой шапке на голове, в валяных сапогах.
Самгин дважды смерил его глазами и, подняв воротник своего пальто, оглянулся, ускорил шаг, а Лаврушка, как бы отдавая отчет, говорил быстро, вполголоса, с радостью:
– Рука – зажила, только пятнышко осталось, вроде – оспу привили. Теперь – учусь. А Павел Михайлович помер.
– Кто это? – спросил Самгин.
– Медник же! Медника-то – забыли?
– Ага...
– Простудился и – готов!
– Ну, – всего доброго! – пожелал Самгин, направляясь к извозчику, но приостановился и вдруг тихонько спросил:
– А – Яков?
– Ничего-о! – тоже тихо и все с радостью откликнулся Лаврушка. – Целехонек. Он теперь не Яков. Вот – уж он действительно...
– Ну, прощай!
Сидя в санях извозчика, Самгин соображал:
«Зачем я спросил про Якова? Странный каприз памяти... Разумеется – это не может быть ничем иным, – именно каприз». И тотчас подумал:
«Кажется, я – убеждаю себя?»
Затем, опустив воротник пальто, строго сказал извозчику:
– Скорей!
Захотелось сегодня же, сейчас уехать из Москвы. Была оттепель, мостовые порыжели, в сыроватом воздухе стоял запах конского навоза, дома как будто вспотели, голоса людей звучали ворчливо, и раздирал уши скрип полозьев по обнаженному булыжнику. Избегая разговоров с Варварой и встреч с ее друзьями, Самгин днем ходил по музеям, вечерами посещал театры; наконец – книги и вещи были упакованы в заказанные ящики.
Он почти благодарно поцеловал руку Варвары, она – отвернулась в сторону, прижав платок к глазам.
И вот, безболезненно порвав связь с женщиной, закончив полосу жизни, чувствуя себя свободным, настроенный лирически мягко, он – который раз? – сидит в вагоне второго класса среди давно знакомых, обыкновенных людей, но сегодня в них чувствуется что-то новое и они возбуждают не совсем обыкновенные мысли. Рядом с ним, у окна, читает сатирический журнал маленький человечек, розовощекий, курносый, с круглыми и очень голубыми глазками, размером в пуговицу жилета. Он весь, от галстука до-ботинок, одет в новое, и когда он двигался – на нем что-то хрустело, – должно быть, накрахмаленная рубашка или подкладка синего пиджака. С другого бока – толстая, шерстяная женщина, в круглых очках, с круглой из фанеры коробкой для шляп; в коробке возились и мяукали котята. Напротив – рыжеватый мужчина с растрепанной бородкой на лице, изъеденном оспой, с веселым взглядом темных глаз, – глаза как будто чужие на его сухом и грязноватом лице; рядом с ним, очевидно, жена его, большая, беременная, в бархатной черной кофте, с длинной золотой цепочкой на шее и на груди; лицо у нее широкое, доброе, глаза серые, ласковые. В углу дивана съежился, засунув руки в карманы пальто, закрыв глаза, остроносый человек в котиковой шапке, ничем не интересный.