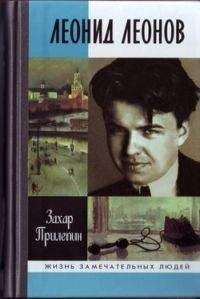— Чепуху болтаешь, Митрий! И не везет же нам с тобою на беседу: прошлый раз, тогда, ты пьяный валялся, теперь больной совсем… Не минуло, а только приступаем к восхождению на главный перевал. Как в песне говорится, в поход за счастьем, по орлиным тропам!
— Не минуло, говоришь? — вызывающе посмеялся Митька. — А раз так, запевай наше «Яблочко», ну!.. что, не в голосе, видать? Нет, просто неловко тебе теперь — в чистые люди вышел! Зато я на твоем месте…
Поднятой ладонью Арташез приостановил расхлестнувшийся было поток:
— Погоди!.. повторяю, ты крепко болен, Митрий, однако болен не настолько же, чтобы путать с трактиром государственное учрежденье. Разве ты застал шашлык с выпивкой на моем столе? Это боль из тебя — но хорошая боль кричит… И, пожалуй, при иных обстоятельствах это означало бы, что не умер в человеке важнейший, его личности главный нерв. Ведь это все маска — дерзость твоя, а на деле ты не хуже меня смекаешь, что вокруг тебя творится. Мне навсегда запомнились твои же слова на митинге, что мы досрочно открыли новый, социалистический век в семнадцатом году. Не все же, Митрий, саблей махать: при такой семейной тесноте родню задеть можно. Пора нам задуманный дом воздвигать… и вот понемножку торопимся наращивать электрические мускулы, потому что жизнь-то больно коротка, ровно фронтовые щи… не успел двух глотков кое-как, обжигаясь, сделать, как уж котелок из рук вышибли… Мне потому так и жалко покраденных денег, другой половины, что это особые, нищие наши, святые для нас с тобой деньги… хотя, конечно, они еще вернутся в нашу общую казну, даже с процентами. А иначе шить не стоит, верно? — Директор Арташез взглянул на часы, нахмурился и решительно поднялся. — Ну, лечись, береги здоровье, Митрий. Мой совет — сходи в баньку с веником. Потом проспи всю свою боль дочиста… Можно и напиться в промежутке, но для сильного это не обязательно. Потом навести, как выздоровеешь, я тебя с женой познакомлю!.. а пока извини, делов тьма, опять же котлеты у жены пережарились, а это тоже непорядок. Ну, ступай же, ступай теперь!
Последние слова его прозвучали тем откровеннее, что на прощанье, по рассеянности что ли, Арташез руки бывшему приятелю не протянул, а вместо того, за плечо придерживая, довел его, не упиравшегося, до дверей. Расставаясь, он как бы нечаянно заглянул уходившему в лицо.
— Никак, плачешь, Митрий? — легко спросил он. — Такой интересный мужчина, в представительной шубе, с красивой прической на щеках, и вдруг плачет. Аи, срам какой…
Митька выпрямился и, стряхнув с плеча руку, зло взглянул Арташезу в лицо.
— Слыхать, и медведи тоже плачут при оказии… — бросил он дерзко, двусмысленно, неизвестно что имея в виду — поломанную ли Арташезову шкатулку или способность лесного зверя к слезам при потрясении.
Глаза его действительно слезились, простудный зной вновь прихлынул к голове. Он пошел, не оглядываясь, и опять встречные подобно воде расступились перед ним. За проведенные в этом доме полчаса он осунулся неузнаваемо… По дороге вспомнилось, как долго искал со Щекутиным провод сигнального звонка, и теперь непоборимая потребность преступника заставила его заглянуть в застекленную кассирскую конторку. Там, расстелив газетку на столе, возле газеткой же прикрытого развороченного шкафа, завтракал пожилой милиционер… С полминуты Митька созерцал сквозь стекло его пальцы, разбиравшие скорлупу вареного яйца, потом почмокал и пошел прочь, сокрушенно покачивая головой.
…Несколько часов лихорадочного сна после того, дома и не раздеваясь, он провел в бессвязной беседе с Фирсо-вым и Арташезом, с обоими сразу. Его разбудили жажда и душевное беспокойство; чтоб заглушить их, он прямиком отправился в одно потайное место неподалеку, где без опасенья можно было предаться любой страсти, отдыху и забвенью всего на свете. Кроме того, в нем жила подсознательная надежда встретить там Агея, но не затем, чтоб упрекнуть или расквитаться за жестокую проделку, а из стремленья взглянуть на Машу: как она теперь, довольна ли.
Самой неразработанной линией в фирсовской повести являлась история отношений Митьки и Вьюги. После подробного и довольно красочного рассказа об их нерушимой, казалось бы, и вдруг споткнувшейся дружбе следовали лишь поверхностные догадки о причинах разрыва и последующей серии то безуспешных, то почти удачных попыток со стороны Вьюги отомстить Митьке за какую-то ужасную его провинность. Надо предположить, что автору остался неизвестен камешек помянутого преткновенья, кстати, забегая вперед, тем еще одним достойный внимания, что не содержал в себе никакого юридического момента для Митькина обвинения; другими словами, в списке преступных действий, караемых по законам молодой Советской республики, подобные проступки не значились.
Только из-за этого и получалась в повести непозволительная хронологическая путаница хотя бы с тем же колечком, которое Митька терял у взломанного шкафа через несколько дней после того, как сам же, после долгих лет разлуки, передал его Вьюге! На деле вещица эта, всего лишь лирическая мелочь для Фирсова, играла более крупную роль и в свое время послужила Митьке грозным сигналом состоявшегося Машина мщенья. Таким образом, та рискованная, потому что в присутствии ожесточенного, способного буквально на все ревнивца, сцена объяснения Вьюги и Митьки была начисто придумана Фирсовым, а самая передача бирюзового колечка состоялась позже, именно в тот роковой вечер, когда заинтересованные герои его повести встретились в заведении у Артемия Корынца.
Сочинитель попал туда после естественных колебаний, когда профессиональное любознайство одержало наконец верх над прочими побочными соображениями. Он вообще презирал литературных белоручек, которые скорее из благоразумия, чем даже брезгливости остерегались, как он выражался при случае, запустить руку по локоть и поглубже в тот бродильный чан, где созревает самый спирт бытия… На другой же день после свидания у Пчхова Фирсов нашел минутку зайти к Агею Столярову на дом, за что, кстати, и был вознагражден личным знакомством с Манькой Вьюгой. И, значит, столь уж велика была жажда Агейкина отпечатлеться навечно в фирсовских писаньях, что незамедлительно согласился захватить своего биографа на воровскую квартиру, малину или шалман — на их языке, едва тот заикнулся о категорической якобы для него необходимости изучить самый придонный планктон блатной жизни. В оставшиеся два часа до сошествия в помянутую трущобу Фирсов сочинил себе самую невероятную, с защитными целями, наружность. Толстые, шинельного сукна, штаны запихнул в держаные козловые сапоги, под пиджак поддел фантазию с головокружительной вышивкой, демисезон подменил вонючим овчинным полушубком с такой же расклокоченной шапкой на голове. Словом, встретившись в назначенном переулке, Агей признал его единственно по очкам да по разбойничье взлохмаченной бороде.
— Сатанински хорош, братец ты мой! — восхитился Агей, оглядывая его со всех сторон. — Кистеня в кулаке только и не хватает…
Они наняли покойные извозчичьи санцы с сухоньким, ровно со старинной иконы сошел, старцем на облучке, который ехал и крестился на покамест целые в ту пору московские колокольни да жаловался на времена, налоги, дороговизну овса и другие классические беды своего ремесла. Дорога, дальняя — почти с одной окраины на другую, — пролегла по довольно людным улицам, и за весь путь седоки не обменялись ни полсловом. Только проезжая большую площадь, Агей неожиданно толкнул спутника своего в бок.
— Знаешь, кто еще будет там? — спросил он тоном озорства и превосходства в самое ухо Фирсова.
— А кто? — вздрогнул Фирсов, испытывая гадливое чувство сообщничества.
— Папаня мой приехали… Уж открою тебе секрет: ты теперь свой, тебе можно. Я ему, вишь, письмишко нацарапал — исправился, мол, в своем поведении, служу на видном месте… делопроизводителем! — заворкотал Агей издевательским шепотом, от которого Фирсову становилось душно и тошнотно. — Так и писал; «Приезжайте, мол, папаня, повидать свою кровь, как она по земле ходит. Заодно и помиримся…» Яблоко, с дерева упав, все же остается лежать под яблоней! Как-никак сын я ему, старому хрычу, а ведь нехорошо с отцом в раздоре жить… согласен?
Фирсов терялся, как ему вести себя: злая тоска в Агеевом голосе и занимала его внимание, и пугала его. Месть, гадал он, качаясь в санях, — но, может быть, и в самом деле предгибельная потребность в примирении? «В ноябрьском небе не угадать, с которой стороны светит солнце», — вспомнилось ему начало третьей главы, которую тогда писал.
Слегка ущербленная, стиснутая облачками луна всходила над ночными переулками. В ее зеленоватом сиянии явственно чернели трубы и бегущие над ними полупризрачные дымки. Не поздний еще вечер здесь, на окраине, выглядел как глухая ночь. Снова морозило, и судя по обилию стоявших над крышами дымов, городские жители щедрей подкидывали поленья. Все больше деревянная, редко-редко двухэтажненькая, уже почти без огней в окнах, иззябшая мелюзга убегала лесенкой во мглистую даль; вдобавок захудалый тот переулок, сломясь в самом конце, упирался в подозрительный овражек. По мере приближения к месту тревожное предчувствие все сильнее овладевало Фирсовым, а проезжая мимо последнего в местности фонаря, он как бы нечаянно заглянул Агею в лицо и поразился мягкой его умиротворенности. Странное сиянье почудилось ему в Агеевых глазах, словно знал тот, куда в конечном итоге тащит его малосильная извозчикова лошаденка.