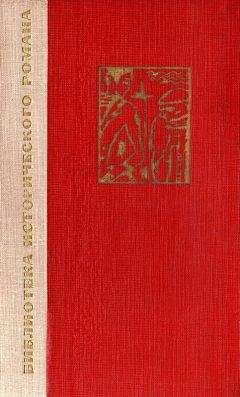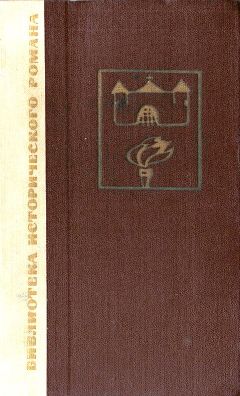— Нет, прежде чем мы к ней вернемся, я должен кое-что уяснить для себя, — с живостью прервал его юноша. — Я готов допустить, что правительство не знает народа, но я уверен, что народ еще меньше знает правительство Есть, конечно, чиновники никчемные, плохие, если угодно, но есть ведь и хорошие, и если они не могут ничего сделать, то потому лишь, что сталкиваются с инертной массой, с народом, который очень мало участвует в делах, его касающихся. Но я пришел не за тем, чтобы спорить с вами об этом предмете: я пришел за советом, а вы убеждаете меня склонить голову перед смехотворными идолами!..
— Да, и повторяю это еще раз, ибо здесь вы должны либо склонить голову, либо потерять ее.
— Склонить голову или потерять ее! — задумчиво проговорил Ибарра. — Тяжелый выбор! Но почему же? Разве любовь к своей стране несовместима с любовью к Испании? Разве необходимо унижаться, чтобы быть добрым христианином? Разве нужно идти против совести, чтобы осуществить благое дело? Я люблю мою родину, Филиппины, потому что ей я обязан жизнью и счастьем и потому что каждый человек должен любить свою родину. Я люблю Испанию, родину моих предков, ибо, несмотря ни на что, Филиппины обязаны ей — и впредь будут обязаны еще больше — своим счастьем и своим будущим. Я католик, я храню в чистоте веру отцов моих и не понимаю, почему мне надо склонять голову, если я могу ее поднять, и уступать моим врагам, если я могу с ними расправиться?
— Потому, что поле, которое вы хотите засеять, принадлежит вашим врагам, а против них вы бессильны… Надо сперва поцеловать руку, которая…
Но юноша не дал ему продолжить, воскликнув с горячностью:
— Целовать руку! А вы забыли, что кто-то из них убил моего отца, что тело его выбросили из могилы!.. Я — его сын и никогда этого не забуду, если я не мщу, то лишь из уважения к церкви.
Старый философ опустил голову и медленно заговорил:
— Если вы будете хранить эти воспоминания, сеньор Ибарра, воспоминания, которые я не могу вам посоветовать изгнать из памяти, то лучше расстаньтесь с вашей мечтой и ищите иных путей к благоденствию соотечественников. Для этого дела нужен другой человек, ибо, чтобы довести его до конца, недостаточно рвения и денег; в нашей стране требуются еще самопожертвование, настойчивость, вера, ибо почва пока не подготовлена; в нее лишь брошены семена вражды.
Ибарра оценил значение слов философа, но не сдавался Он думал о Марии-Кларе и хотел во что бы то ни стало сдержать свое обещание.
— Ваш жизненный опыт не подсказывает вам никакого иного, более приемлемого решения? — спросил он тихо.
Старик взял его за руку и подвел к окну. Дул свежий ветерок, предвестник холодов; перед их глазами раскинулся сад, окруженный большой рощей.
— Почему не можем мы поступать так, как эта слабая ветка, обремененная цветами и бутонами? — спросил философ, указывая на чудесный розовый куст. — Ветер сгибает, трясет ее, и она склоняется, словно укрывая свою дорогую ношу. Если бы веточка стояла прямо, она бы сломалась, ветер развеял бы лепестки цветов и погубил бутоны. Но ветер стихает, и ветка распрямляется, гордясь своим сокровищем. Кто упрекнет ее в том, что она склонилась перед необходимостью? А вон там вы видите гигантский купанг с величественной кроной, где гнездится орел. Я принес его из лесу маленьким деревцом и много месяцев подпирал его ствол тонкими бамбуковыми палками. Если бы я пересадил его сюда большим и крепким, он наверняка бы не прижился — ветер вырвал бы его из земли прежде, чем корни укрепились бы в почве, прежде, чем он привык бы к новой среде и набрался сил, чтобы разрастись и вширь и ввысь. Так и вы — растение, перенесенное из Европы на эту каменистую почву, — можете погибнуть, если не будете искать опоры и приноравливаться. Положение ваше нелегкое — вы стоите один на возвышенности, почва колеблется, небо сулит бурю, а кроны деревьев вашей породы, как вам известно, притягивают к себе молнии. Бороться в одиночку против всего существующего — не смелость, а безумие. Никто не упрекнет рулевого за то, что, заметив первые признаки бури, он укроется в бухте. Склониться перед пролетающей пулей не трусость; гораздо хуже встретить ее с поднятой головой лишь для того, чтобы упасть и никогда более не встать.
— Но принесет ли эта жертва плоды, о которых я мечтаю? — спросил Ибарра. — Поверит ли мне священник и забудет ли мою дерзость? Будут ли они искренне помогать мне в развитии образования, которое помешает монастырям присваивать богатства здешнего края? Не станут ли они притворяться дружелюбными, оказывать покровительство лишь для виду, а исподтишка мешать, ставить палки в колеса, нащупывать слабые места в моем замысле, чтобы таким путем уничтожить его скорее, чем открытой атакой? Если ваши рассуждения верны, можно ведь ожидать чего угодно!
Старик минуту молчал, не зная, как ответить на эти вопросы. Затем он сказал:
— Если такое случится, если ваше предприятие потерпит неудачу, вы сможете утешить себя мыслью, что сделали все, что могли, и этим уже кое-чего достигли. Вы заложите первый камень, вы бросите первые семена, а когда разразится буря, какое-нибудь семя, возможно, переживет катастрофу, прорастет, спасая свой род от полного уничтожения, и принесет впоследствии другие семена сыновьям умершего сеятеля. Ваш пример может вдохновить других, для которых страшно лишь начало.
Взвесив эти доводы и трезво оценив свое положение, Ибарра понял, что в пессимистических речах старика крылась большая доля правды.
— Я верю вам! — воскликнул он, сжимая руку философа. — Не напрасно пришел я к вам за добрым советом. Сегодня же пойду и поговорю начистоту со священником, который, в конце концов, не сделал мне никакого вреда и слывет добрым человеком, — ведь не все таковы, как гонитель моего отца. К тому же я должен уговорить его заступиться за несчастную безумную и ее мальчиков. Я верю в бога и в людей!
Распрощавшись со стариком, он вскочил на коня и ускакал. Глядя ему вслед, мудрый пессимист прошептал:
— Посмотрим, как року будет угодно завершить драму, начавшуюся на кладбище.
Но на этот раз мудрый старик глубоко ошибался: начало драме было положено гораздо раньше.
Десятое ноября, канун праздника.
Привычная, однообразная жизнь городка нарушилась, всюду кипит работа: в домах, в церквах, на улицах, на арене для петушиных боев, на полях. Окна завешиваются флажками и пестрыми тканями; воздух полнится шумом, музыкой, веселыми возгласами.
На маленьких столиках, покрытых белыми расшитыми скатертями, девушки расставляют разноцветные хрустальные блюда со всевозможными сладостями, приготовленными из местных фруктов. Во дворах пищат цыплята, кудахчут куры, хрюкают свиньи, взбудораженные веселой людской суматохой. Слуги снуют взад и вперед с позолоченной посудой и серебряными приборами; тут бранятся из-за разбитой тарелки, там смеются над неловкостью деревенской девушки. Отовсюду несутся приказания, крики, то и дело слышится шепот, веселая перебранка, смех, все подгоняют друг друга, кругом царит суета, шум, неразбериха. Вся эта суматоха, все труды предназначаются для того, чтобы встретить знакомого или незнакомого гостя, чтобы попотчевать любого пришельца, которого вы, возможно, никогда не видели раньше и не собираетесь увидеть впредь; чтобы любой гость, будь то друг или враг, чужеземец, филиппинец или испанец, бедный или богатый, ушел довольным и сытым: от гостей не требуют благодарности, и хозяева даже готовы к тому, что во время трапезы или после нее гости могут отплатить злом радушному семейству! Богачи — те, что бывали в Маниле и видели больше, чем другие, — закупили пиво, шампанское, ликеры, вина и всякую европейскую снедь, хотя сами они вряд ли съедят хоть крошку из заморских яств или выпьют хоть каплю вина.
Столы богачей роскошно сервированы. В центре стоит отлично сделанный искусственный ананас, весь утыканный зубочистками, которые вырезают на досуге заключенные в тюрьмах. На одних зубочистках изображен веер, на других — букетик цветов, птица, роза, пальмовый лист или цепи — все из цельного куска дерева; мастером был каторжник, инструментом служил тупой нож, а вдохновение рождал окрик тюремщика. Вокруг такого ананаса, который называют «зубочистилище», высятся хрустальные вазы с фруктами; на них сложены в пирамиды апельсины, лансоны, атес, чикос и даже манго, несмотря на то что уже ноябрь. На больших блюдах, устланных цветной узорчатой бумагой, разложены окорока, доставленные из Европы и Китая, фаршированные индейки и большой пирог в форме «Agnus Dei»[105] или голубя, то бишь святого духа. Среди всего этого расставлены аппетитные фляжки с ачара, затейливо украшенные цветами, различными фруктами и овощами, искусно нарезанными и приклеенными сиропом к стенкам графинов.