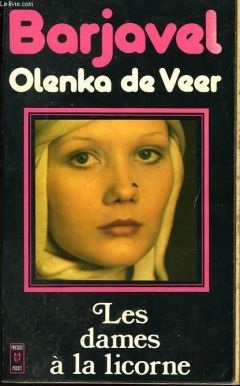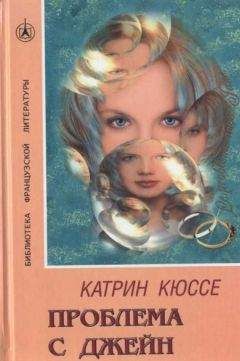Женщина плавно сводила и разводила руки, как будто чайка взмахивала крыльями, но делала это медленно, словно во сне.
Над ней простиралось множество быстро плывущих в сторону материка светлых и темных облаков, то распадавшихся, то сливавшихся в сплошную массу. Женщина на вершине тура казалась Гризельде стоящим на мостике капитаном каменного корабля, и у нее закружилась голова. Все вокруг выглядело колеблющимся, изменчивым, облака уносили ее с собой по волнам песни вместе с королевой Маав и ее воинами, и этот полет, продолжавшийся две тысячи лет, увлекал ее с собой к другим берегам, к другим звездам, к иной жизни и, возможно, к смерти.
Прямо над островом в облачной пелене возникла круглая, быстро расширявшаяся дыра, и в ней на фоне темного неба медленно плыла луна. В ее свете возникли тысячи небольших белых парусов, несущихся со всех сторон к острову. Это были чайки, постоянные обитательницы острова. Их стая образовала в небе над островом кольцо, в центре которого находилась луна, и они с криком кружились вокруг нее. Их крики создавали странный аккомпанемент для песни, которую пела толпа.
Женщина резко вскинула руки к небу, завершая песню на протяжной ноте, все более и более высокой, продолжавшейся невыносимо долго. Толпа и чайки затихли, и теперь был слышен только нескончаемый пронзительный вопль, поднимавшийся над скалой и морем и уносивший с собой к небу все сущее. Гризельда, непроизвольно напрягая все мышцы, тоже тянулась к небу, почти не ощущая землю под ногами и опираясь только кончиками пальцев руки на плечо Шауна.
Вибрирующий звук внезапно оборвался. В наступившей мертвой тишине слышался только бархатный шорох тысяч птичьих крыльев. Затем раздались крики толпы, крики радости, облегчения, благодарности, восторга.
Луна опять спряталась за облаками. Женщина на вершине тура подобрала свой фонарь и спустилась с каменной гряды.
Шаун взглянул на Гризельду, и та улыбнулась ему. Потом она обхватила его руками и прижалась к его груди. Она ощущала этого мужчину удивительно близким ей человеком. Во время закончившейся церемонии их объединило что-то более прочное, чем любовь, и она была уверена, что ей стало доступно нечто доселе неизвестное, что невозможно выразить словами, но что делало события, предметы и людей, весь окружающий ее мир более близким, более понятным. Все находилось в связи: дерево превращалось в языки огня над скалой, ветер становился твердью, а скала — текучей. Ребенок превращался в тысячелетнего старца, а старик — в новорожденного. Птица становилась лисой, поедавшей эту птицу.
Она спросила:
— Это была гэльская песня?
— Нет, она гораздо древнее.
— На каком она была языке?
— Этого никто не знает.
— Но о чем говорилось в ней?
— Теперь это неизвестно. Но ее может петь любой пришедший сюда, независимо от возраста, лишь бы он уже научился говорить.
Толпившиеся вокруг них люди подбирали свои фонари и объединялись в группы, в составе которых они приплыли на остров.
— Теперь они будут есть и пить, потом станут петь и танцевать. А нам пора возвращаться.
Светало. Чайки продолжали кружиться над островом. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, стая чаек свернулась в плотный вихрь, быстро вытянувшийся к зениту. Из отплывшей в сторону лодки Гризельда увидела, что Белый остров удивительно походил на лежащего единорога, а чайки над ним образовали тонкий белый рог, острие которого лучи восходящего солнца окрасили в розовый цвет.
* * *
Бросившаяся в постель Гризельда ощущала себя легкой, словно лепесток цветка. Она была невесомой. Она незаметно соскользнула в сон, точнее, на поверхность сна, потому что была такой легкой, что без усилий держалась на поверхности неосязаемого.
Открыв глаза, она увидела мать, стоявшую у ее изголовья.
Обеспокоенная отсутствием Гризельды, хотя время уже приближалось к полудню, леди Гарриэтта спросила о ней у Молли, которая ответила:
— Она спит.
В половине первого леди Гарриэтта поднялась в комнату дочери. Она раздвинула шторы и, склонившись нал Гризельдой, внимательно всмотрелась в ее лицо. Дочь показалась ей вполне здоровой.
Когда Гризельда проснулась, разбуженная дневным светом, леди Гарриэтта с тревогой спросила:
— Надеюсь, ты не заболела снова?
Гризельда почувствовала прилив любви к матери, всегда находившейся в стороне, ничего не видевшей и ничего не понимавшей, тем более что она не хотела ничего видеть и понимать, но которая умела тихо и незаметно облегчать жизнь всем членам семейства. Она поднялась на коленях, обняла мать, прижалась к ней и громко, по-детски, чмокнула ее в щеку. Потом громко сказала:
— Мама, я люблю вас!
Это было так неожиданно, так неуместно, что леди Гарриэтта покраснела. Потом она все же улыбнулась и почувствовала себя счастливой. Главное, она убедилась, что дочь здорова.
— Прекрасно! Я вижу, что с тобой все в порядке! Но мне кажется, что тебе не стоит пропускать завтрак. Отец не станет ждать тебя!
Гризельда спрыгнула на ковер и запела, импровизируя:
— Вот какая ерунда
Со мною случается:
Я могла бы съесть слона,
Но не получается!
Рассмеявшись, она снова поцеловала мать и крикнула:
— Молли! Помоги мне одеться!
Молли уже хлопотала в туалетной комнате. Она вылила несколько кувшинов горячей воды в ванну и приготовила все необходимое для купанья.
Леди Гарриэтта покачала головой и удалилась. Она так ничего и не поняла, но у нее появилась уверенность, что с Гризельдой все хорошо.
— Нет, — сказала Гризельда Молли. — Никаких корсетов сегодня. Рубашку с вышивкой и нижнюю юбку, ту, с шестью воланами. Потом корсаж в зеленую и белую полоску и зеленую юбку. И еще чулки. Нет! Никаких чулок! Никаких! Маленькие белые сапожки.
«Никаких чулок! Никакого корсета! О Господи!» — думала Молли. Она металась от шкафа к комоду и обратно, посмеиваясь про себя. Она ничего не знала, но многое подозревала, догадываясь о том, чему не осмеливалась поверить. Резкие перепады настроения Гризельды, ее нетерпеливая радость в дни, предназначавшиеся для автомобильных прогулок, ее усталый вид и нервозность после поездки не могли остаться незамеченными для горничной, живой тени хозяйки. Шаун? Возможно ли такое? Молли пыталась убедить себя, что ошибается. С одной стороны, она возмущалась, потому что Шаун был обычным наемным работником, но с другой радовалась, потому что они были такой красивой парой. Кроме того, она беспокоилась за Гризельду, так как представляла, что ничего хорошего из этого не могло получиться.
Когда процедура одевания закончилась, Гризельда помчалась в лес, к кругу камней. Она опустилась на колени перед лежавшей на земле плитой, и так как представляла, чего ей следует ожидать, тут же увидела вырезанный на камне знак молнии. Время почти стерло его, местами он был скрыт под лишайниками, но он существовал, едва различимый и в то же время достаточно отчетливый. Он существовал в действительности, и проведя по нему пальцем, можно было даже восстановить отсутствующие детали рисунка.
Вернувшись домой и нарисовав знак на бумаге, она пошла к отцу, курившему в малом салоне, и рассказала, где обнаружила молнию.
Сэр Джон заинтересованно рассмотрел рисунок, сначала держа листок вертикально, потом повернул его на девяносто градусов.
— Находись мы в Средиземноморье, я сразу сказал бы, что это такое. Это просто удивительно. Ты видишь: если держать рисунок вертикально, то это будет египетский иероглиф. А если повернуть так, чтобы он стал горизонтальным, то это будет буква финикийского алфавита. Так или иначе, но в обоих языках это одна и та же буква «М». И в обоих языках она обозначает воду. Действительно, считается, что народы, возводившие каменные сооружения на севере Европы, пришли сюда из Средиземноморья. Но их письменность не имела ничего общего ни с египетским языком, ни с финикийским. Странно, очень странно. Впрочем, когда ты изучаешь древние цивилизации, то не перестаешь удивляться.
— Буква «М», — сказала Гризельда. — Но это первая буква имени Маав и слова «море».
— Да, конечно. Послушай, тебя действительно интересует эта проблема?.. Когда Элен выйдет замуж. — сэр Джон вздохнул. — Может быть, ты захочешь работать со мной?
— Ах, нет, нет! — со смехом ответила Гризельда.
Она поцеловала отца и быстро ушла. Она уже слышала приближающийся шум автомобильного мотора.
* * *
Сегодня Шаун повез ее непривычным маршрутом, по дороге, которую они до сих пор никогда не выбирали. Они удалялись от побережья по достаточно широкой дороге, по которой можно было ехать довольно быстро.
Обогнув два озера, дорога вошла в осиновую рощу и почти сразу пропала. Когда Шаун заглушил мотор, птицы, замолчавшие отнюдь не от испуга, а из любопытства, снова принялись болтать. Старый, потрепанный жизнью дрозд посмотрел на автомобиль сначала одним глазом, потом другим и восхищенно присвистнул. Коричневая пташка с зелеными крыльями и красной грудкой отозвалась: «Чирик! Чирик!» — и задергала хвостиком. Потом повторила чириканье, означавшее: «Мне не нравится, как пахнет эта птица с круглыми лапами». Потом чирикнула в третий раз: «Интересно, что ест эта птица?» — «Гвозди», — сердито буркнул дрозд. Действительно, правое колесо поймало гвоздь, отличный гвоздь с квадратной шляпкой, которым крепится подкова к лошадиному копыту. Запертая в шине душа медленно вернулась в родную атмосферу, тогда как Шаун, взяв Гризельду за руку, повел ее по покрытой густым мхом тропинке, петлявшей между невысоких кустов, ласково касавшихся листвой ее лица.