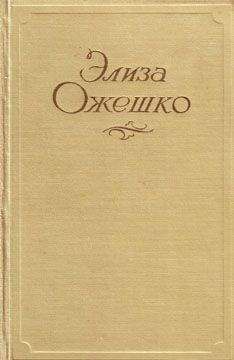Сгорбившись так, что спина его выгнулась дугой, Краницкий сидел в своей узкой, по моде, шубе и в цилиндре, из-под которого видны были черные волосы и бороздки морщин над черными бровями, смотрел на тянувшуюся за оградой улицу и по привычке вертел двумя пальцами, обтянутыми датскими перчатками, золотой портсигар. Цилиндр его блестел, отливая атласным лоском. В портсигаре, который он вертел в пальцах, солнце высекало золотые искры…
Улица за оградой упиралась в довольно большую площадь, над которой господствовали два высоких здания с роскошными подъездами, перед которыми не прекращалось оживленное движение. В широкие двери входили и выходили вереницы людей, один за другим к ним подъезжали экипажи, на ступенях стояла одетая в черное, волнующаяся толпа; она то растекалась, то снова собиралась, шумела и жестикулировала, видимо чем-то страстно захваченная. Да и не удивительно! То были стоявшие по обе стороны площади и, казалось, всеми своими окнами заглядывавшие друг другу в глаза банк и биржа. Краницкий ни на эти здания, ни на бурлившие возле них потоки людей и лошадей не обращал ни малейшего внимания. Он никогда не имел с ними ничего общего. Но вдруг он снова подался всем телом вперед, уставясь на проезжавший за оградой экипаж, вернее на сидевшего в экипаже человека.
Это был Алойзы Дарвид, выехавший в погожий день в открытом экипаже, на паре рослых, великолепных лошадей; в легкой упряжи без единой побрякушки они выступали с медлительной, величавой грацией. На козлах — кучер и лакей в высоких шляпах и огромных меховых воротниках; в экипаже на фоне синего узорчатого шелка — небольшая, худощавая фигура с бледным лицом в рыжеватых бакенах и с золотыми искорками в стеклах, закрывающих глаза. Глухо шурша резиновыми шинами, экипаж медленно и величаво подкатил к великолепному подъезду банка. Лакей соскочил с козел, бросился к дверце и, взяв из рук своего хозяина какую-то карточку, скрылся в доме. Не прошло и пяти минут, как он вернулся с двумя людьми важного вида; они поспешно подошли к экипажу и начали о чем-то разговаривать с его владельцем. Должно быть, банковские служащие, может быть, даже занимавшие высокие посты; однако достаточно было Дарвиду написать на карточке два слова, чтобы они явились на его зов. Идти к ним, может быть подниматься наверх по лестнице — на это у него, как всегда, не было времени; и вот они сбежали по лестнице к нему, едва увидев его фамилию на карточке, — именно сбежали, а не сошли, и теперь, приподняв шляпы, с приятнейшими улыбками на важных физиономиях, видимо, о чем-то с ним совещались, что-то ему докладывали и обещали. А он, как всегда изысканно вежливый, но холодный, с едва заметной усмешкой на сухощавом лице и с золотыми искорками в стеклах, закрывавших глаза, больше слушал, чем говорил, и на фоне сверкающего синевой узорчатого шелка казался неким полубогом.
Пять минут — и разговор окончен. Отвесив со шляпами в руках поклон — Дарвид довольно низкий, служащие гораздо ниже, — они простились; великолепные лошади, медленно и величаво выступая, тронулись, экипаж, глухо шурша резиновыми шинами, покатил дальше, описал большой полукруг и остановился на противоположной стороне площади, у подъезда, к которому вели длинные и широкие ступени. Тут уже лакей отворил дверцу, и Дарвид стал подниматься по лестнице; густая, одетая в черное толпа расступилась перед ним, как морская волна перед кораблем. Видно, не малый то был корабль, если людская волна содрогнулась, как вздрагивает живой организм от электрического тока. Расступившаяся толпа забурлила, зашепталась, стихла; в воздух вскинулось множество рук, снимая шапки и шляпы; множество лиц обернулось к Дарвиду, устремив на него глаза. Этот взгляд выражал робкое любопытство, почти смирение. Те, кто посмелее, стали протискиваться сквозь толпу и, обнажив головы, то слишком медленно, то слишком поспешно, но не обычным шагом подходили к миллионеру, о чем-то с ним заговаривали, очевидно спрашивали, советовались, должно быть просили — все это можно было угадать по их движениям и лицам. Образовалось нечто вроде свиты избранников, окруживших полубога; вместе с ним они шли меж двух стен раздавшейся толпы, поднимаясь все выше по роскошной лестнице, пока не скрылись за вратами святилища. Лишь тогда в толпе снова замелькали шапки и шляпы над непокрытыми головами, а множество глаз, лишившись возможности лицезреть Фаэтона[151], обратилось к его триумфальной колеснице; долго еще взгляды не отрывались от пламеневшей на солнечном свету синевы узорчатого шелка, устилавшего эту колесницу, и от пары статных коней, которые, не шелохнувшись, покорно стояли, подобно бронзовым скакунам солнца, у врат денежного рынка, носящего название биржи.
Наклонившись вперед, Краницкий сидел на садовой скамейке, словно окаменев в этой позе. Губы его кривились, глаза горели. Так вот что! Не прошло и месяца со дня смерти бедной Кары, а он, снова торжествующий и полный энергии, закидывает аркан на золотого тельца, охотится за новыми миллионами! Полубог! Титан! Король торжищ, шагающий в семимильных сапогах вдогонку американским миллиардерам, даже не миллионерам, а миллиардерам! Вот человек, который, как сказал бы барон Эмиль, умеет хотеть!
Однако… каким он казался маленьким и уже ничего не хотевшим в тот день, там… когда он стоял у гроба умершей девочки, окутанный дымом ладана, — который поднимался над ней, расстилаясь в воздухе, словно легкий туман. Каким он тогда казался маленьким, как будто расплющенным чьей-то огромной рукой, — уже не полубог или титан, а скорей насекомое, старающееся забиться в узкую щель, спасаясь от хищной птицы! Краницкий видел его в тот день; когда он услышал о несчастье, никакие силы земли или ада не могли бы помешать ему бежать, лететь… Это несчастье пронзило насквозь его сердце. Cela lui avait fendu le coeur… И одновременно он почувствовал эти боли в печени и еще какие-то… с некоторых пор они участились и жестоко его терзают. Однако, несмотря на боли, он бросился в этот дом, не думая ни о том, что вход туда ему запрещен, ни о том, что он может там встретиться с ним… он вошел и такой знакомой дорогой направился прямо в комнаты хозяйки дома. Будь что будет, но в столь страшную минуту он должен видеть эту женщину, эту святую, cet etre noble et doux[152]. Она была окружена множеством людей, но он не знал, кто были эти люди, не думал о том, что могут о нем сказать. Глаза его застлало туманом, закрывавшим все, кроме одного женского лица, так ужасно изменившегося и постаревшего за последние дни; исчез ореол бледнозолотых волос, блиставший вокруг ее лба, и теперь во всю его ширь темной бороздкой пролегла глубокая морщина. Никого не видя, ни с кем не здороваясь, он шел прямо к ней и, упав на колени, прижал к губам край ее траурного платья. Он сделал это, ни о чем не раздумывая, ничего не разыгрывая, в порыве, бросившем его к ногам этой женщины. Cela lui est venu du coeur, rien, que du coeur…[153] Оттого что никогда… никого… так, как ее! Он пользовался успехом у женщин, много раз в жизни был любим и любил — по-разному, но так, как эту… никогда… никого!..
Он не знает, не помнит, не отдавал себе отчета в том, что было после, но, кажется, она громко разрыдалась и упала в объятья дочери; кажется, был там и Марысь и еще множество людей, они входили, выходили, и их тихие шаги и слова звучали, как шелест падающих с дерева листьев. Он, забившись куда-то в угол, стоял или сидел — это ускользнуло из памяти… только помнится, его окружал аромат цветущей сирени, которой было полно в комнате; наконец он почувствовал, что уже поздно, что ему пора уходить, как ушли другие. Не иметь права в минуты несчастья быть с любимой — нет муки нестерпимее этой! Но жизнь порой бывает жестока. La vie est quelquefois atroce! Он еще пошел поглядеть на «малютку» и там, кроме нее, увидел этого… полубога — в таком состоянии, что подумал: «Voilá aussi un homme fini!»[154] Размышляя об этом, Краницкий облокотился на спинку садовой скамейки, закрыл рукой глаза, и перед его умственным взором предстало странное видение, похожее на сказку или на сон…
Какая пышность, какой своеобразный замысел и вкус! И какая гора золота! Кажется, все это было сделано по замыслу и вкусу Мариана. Большая гостиная превратилась в грот, сверху донизу задрапированный белым муслином и крепом, падавшим пышными складками, которые сходились вверху, образуя свод, замкнутый огромной розеттой в виде мистической четырехлепестковой розы, часто изображавшейся на окнах готических храмов. Но здесь она скрепляла пышные складки крепа, скрывавшие стены и потолок, и была белая и такая воздушная, как будто возникла из причудливой игры облаков. Да и все тут: стены, своды и розетта, казалось, было создано из облаков и снега, на которые обрушился ливень белых цветов. Только белых. Они спускались гирляндами или как бы в случайном беспорядке были разбросаны по стенам и своду, покрывали пол, осыпали всё, выглядывали и падали отовсюду. Кроме них и среди них только пылающие свечи — звезды, снопы, колонны из свечей, горящих в жирандолях и канделябрах, неведомо где найденных; они были так необычны, так стильны и причудливы, словно их перенесли в действительность из грез разгоряченного воображения. Ничего яркого или блестящего и никаких символов смерти. Ливень белых цветов среди моря снежной белизны и ослепительное сияние огней. И еще — опьяняющий аромат ландышей, роз, сирени, гиацинтов, к которому примешивался запах каких-то курений, такой же необычный, как и все в этой комнате; курильница была невидима, и лишь время от времени в воздухе стлались сероватые струйки дыма, кое-где позолоченные пламенем свечей. Девственность, окутанная ароматом мистицизма, фантазия, не признающая невозможного, отрывок волшебной сказки или строфа поэмы, и в этом как средоточие всего — хрупкая девичья фигурка, спокойно уснувшая на возвышении, в белом платье, подобном подвенечному наряду; ее тонкое личико в ореоле бледнозолотых волос едва заметным оттенком белизны отличалось от снежных цветов и крепа. В воздухе, насыщенном опьяняющим благовонием, струйками расплывался дым курильниц, ярко горели свечи, и в их ослепительном сиянии, утопая в снежной белизне, Кара спокойно спала; ровные дужки темных бровей оттеняли греческие очертания ее лба, на сомкнутых губах застыла почти веселая улыбка.