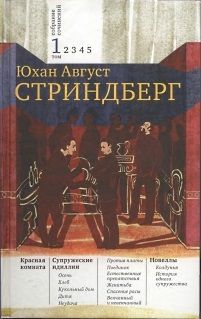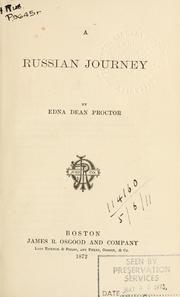— Ты долго отсутствовала, Агнесса!
— Долго? Что ты этим хочешь сказать?
— Мне кажется, что я не видел тебя целую вечность. У тебя сегодня такой хороший вид! Хорошо ли ты спала?
— Ты находишь, что я выгляжу лучше обыкновенного?
— Да, я нахожу это; ты такая разрумянившаяся — на щеках твоих нет ямочек! Что ж ты не здороваешься с Фаландером?
Фаландер стоял спокойно и слушал разговор, но лицо его было бело, как гипс, и казалось, что он обдумывает что-то.
— Какой у тебя утомленный вид, — сказала Агнесса и, освободившись из рук Ренгьельма, пробежала через комнату с мягкими движениями молодой кошки.
Фаландер не отвечал. Агнесса взглянула на него пристальнее и вдруг поняла его мысли; лицо ее изменилось, как водная поверхность под порывом ветра, но только на одну секунду; в следующую она уже была опять спокойна, бросив взгляд на Ренгьельма, она уяснила положение и приготовилась ко всему.
— Можно узнать, что это за важные дела собрали нас здесь так рано? — сказала она бодро и хлопнула Фаландера по плечу.
— Да, — начал тот так твердо и решительно, что Агнесса побледнела, но в то же мгновение откинул голову, как будто хотел перевести мысли в другую колею. — Сегодня день моего рождения, и я приглашаю вас на завтрак!
Агнесса, видевшая мчавшийся прямо на нее поезд, почувствовала себя спасенной, разразилась звонким смехом и обняла Фаландера.
— Но так как я заказал завтрак к одиннадцати, то до тех пор нам придется подождать. Садитесь, пожалуйста!
Настала жуткая тишина.
— Ангел проходит по комнате, — сказала Агнесса.
— Это ты, — сказал Ренгьельм и благоговейно и нежно поцеловал ее руку.
У Фаландера был вид человека, выброшенного из седла и делающего усилия опять взобраться на коня.
— Я видел сегодня утром паука, — сказал Ренгьельм. — Это обозначает счастье.
— Araignée matin: chagrin, — сказал Фаландер. — Разве ты этого не знаешь?
— Что это значит? — спросила Агнесса.
— Паук утром приносит горе.
— Гм!..
Стало опять тихо, и дождь, порывами хлеставший в окна, заменял разговор.
— Я читал сегодня ночью потрясающую книгу, — заговорил опять Фаландер, — так что почти не мог заснуть!
— Что это была за книга? — спросил Ренгьельм без особого любопытства, потому что все еще ощущал тревогу.
— Она называется «Pierre Clément» и в ней говорится об обыкновенной женской истории; но она там представлена так живо, что производит впечатление жизни.
— Что такое обыкновенная женская история, если можно спросить? — сказала Агнесса.
— Неверность и измена, конечно!
— И этот Pierre Clément? — сказала Агнесса.
— Он, разумеется, был обманут. Он был молодым художником, полюбившим любовницу другого…
— Теперь я припоминаю, что читала этот роман, — сказала Агнесса, — он мне очень понравился. Не вышла ли она потом замуж за того, кого любила действительно? Да, так это было, и в это время она сохранила старую привязанность. Автор хотел показать этим, что женщина может любить двояко, мужчина же только на один лад. Это очень верно, не правда ли?
— Конечно! Но вот наступил день, когда ее жених должен был подать эскиз на конкурс… словом, она отдалась префекту, и Pierre Clément стал счастливым и мог жениться.
— И этим автор хочет сказать, что женщина может пожертвовать всем для того, кого любит; мужчина же…
— Это самое бесстыдное, что мне когда-либо приходилось слышать! — вырвалось у Фаландера.
Он встал и подошел к своей шифоньерке. Резко открыл дверцу и вынул черный ящик.
— Вот, — сказал он и подал Агнессе ящик, — ступай домой и освободи мир от выродка!
— Что это значит? — сказала Агнесса, смеясь и открывая ящик, из которого она вынула шестизарядный револьвер. — Какая красивая вещица! Не был ли он у тебя, когда ты играл Карла Моора? Да, конечно! Мне кажется, что он заряжен.
Она подняла револьвер, прицелилась в отдушину и выстрелила.
— Запри его! — сказала она. — Это не игрушка, друзья мои.
Ренгьельм сидел молча. Он понял все, но не мог произнести ни слова; и до того был он зачарован этой женщиной, что не мог даже найти в себе враждебного чувства к ней. Он чувствовал, как нож пронзил его сердце, но боль еще не успела загореться.
Фаландер был выведен из равновесия такой наглостью, и ему нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя, так как его моральная казнь не удалась и его coup de théâtre {98} разрешился в неблагоприятную для него сторону.
— Не пойдем ли мы? — сказала Агнесса и стала приводить в порядок волосы перед зеркалом.
Фаландер открыл дверь.
— Ступай, — сказал он, — и неси с собой мое проклятие; ты разрушила душевный покой честного человека.
— О чем ты болтаешь? Закрой дверь, здесь не тепло!
— Так? Так надо говорить яснее? Где ты была вчера вечером?
— Это знает Гьяльмар, и это тебя не касается!
— Ты не была у тетки; ты ужинала с директором?
— Это неправда!
— Я видел тебя в девять часов в ресторане при ратуше!
— Ты лжешь! В это время я была дома; ты можешь спросить тетину горничную, она провожала меня домой!
— Такого я не ожидал!
— Не кончить ли нам этот разговор, чтобы выбраться наконец! Не надо тебе ночью читать глупые книжки, ты днем становишься придирчив. Одевайтесь!
Ренгьельм схватился за голову, чтобы удостовериться, на месте ли она, потому что все перевернулось для него вверх дном. Когда он убедился, что все в порядке, то пытался найти ясную мысль, которая помогла бы разъяснить положение, но не нашел ее.
— Где ты была шестого июля? — спросил Фаландер с уничтожающим лицом судьи.
— С какими глупыми вопросами ты пристаешь! Как могу я припомнить сегодня то, что было три месяца тому назад?
— Ты была у меня, а сказала Гьяльмару, что была у тетки.
— Не слушай его, — сказала Агнесса и, ласкаясь, приблизилась к Ренгьельму, — он болтает глупости.
В одно мгновение Ренгьельм схватил ее за горло и опрокинул навзничь в угол около печки, где она осталась лежать неподвижно на вязанке дров.
Затем Ренгьельм схватил шляпу, но Фаландеру пришлось помочь ему надеть пальто: так дрожал он всем телом.
— Пойдем, — сказал он. Плюнул на камни перед печкой и вышел.
Фаландер помедлил мгновение, пощупал пульс Агнессы и последовал за Ренгьельмом, которого догнал внизу.
— Я удивляюсь тебе, — сказал Фаландер Ренгьельму. — Ведь дело было так ясно, что не требовало никаких разъяснений.
— Прошу тебя, оставь все это! Нам осталось немного времени побыть в обществе друг друга; с ближайшим поездом я уеду домой, чтобы работать и забыть! Зайдем в ресторан и «оглушимся», как ты это называешь.
Они вошли в ресторан и взяли кабинет. Вскоре они сидели за накрытым столом.
— Я не поседел? — спросил Ренгьельм и схватился за волосы, которые были совсем влажные и слиплись.
— Нет, мой друг, это бывает не так скоро; и я-то еще не сед.
— Она не ушиблась?
— Нет!
— В этой комнате это было — в первый раз!
Он встал из-за стола, подошел к дивану и упал перед ним на колени; положил голову на диван и заплакал, как дитя на коленях у матери.
Фаландер сел рядом с ним и взял его голову в руки. Ренгьельм почувствовал, как что-то горячее, как искра, упало ему на шею.
— Где твоя философия, друг мой? Сюда ее!.. Я утопаю! Соломинку! Сюда!
— Бедный, бедный мальчик!
— Я должен ее видеть! Я должен попросить у нее прощения! Я люблю ее! Несмотря ни на что! Ни на что! Не ушиблась ли она? Бог мой! Можно ли жить и быть таким несчастным, как я!
В три часа пополудни Ренгьельм уехал поездом в Стокгольм. Фаландер захлопнул за ним дверцу купе.
Осень принесла большие перемены и Селлену. Его высокий покровитель умер, и все воспоминания о нем уничтожались; даже воспоминания о его хороших делах не должны были пережить его. Что стипендию прекратили — само собой разумеется, тем более что Селлен не был из числа тех, кто ходит попрошайничать. К тому же он находил, что не нуждается в поддержке, после того как ему уже протянули руку помощи; он видел вокруг себя многих более молодых и — более нуждающихся.
Но он увидел, что не только солнце погасло, но и все маленькие планеты совершенно затмились; хотя он за лето и укрепил свой талант строгой работой, председатель заявил, что он пошел назад и что его весенний успех был простой удачей; профессор пейзажной живописи дружески объявил ему, что из него никогда ничего не выйдет; а академический критик воспользовался случаем реабилитироваться и настаивал на своем первоначальном мнении. Кроме того, у покупающих картины, то есть у невежественной кучки людей, наступила перемена вкуса; пейзажи должны были непременно изображать дачные места, если их желали продать; но и тогда было нелегко пробиться, потому что, в сущности, шел только сентиментальный жанр и полуобнаженная кабинетная живопись.