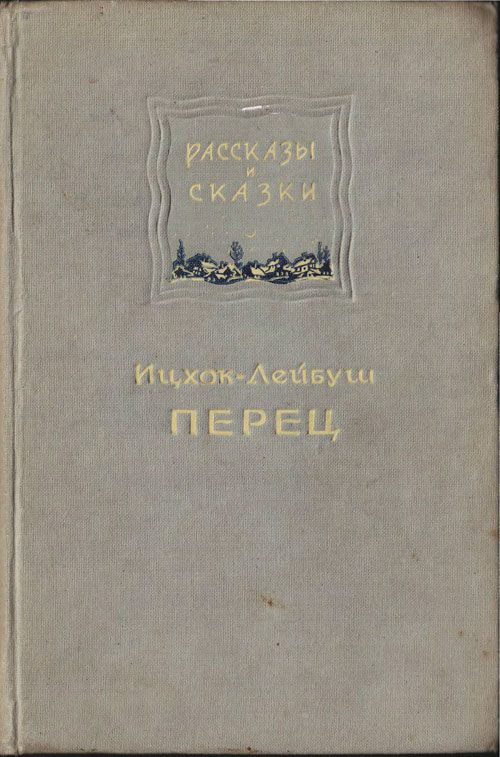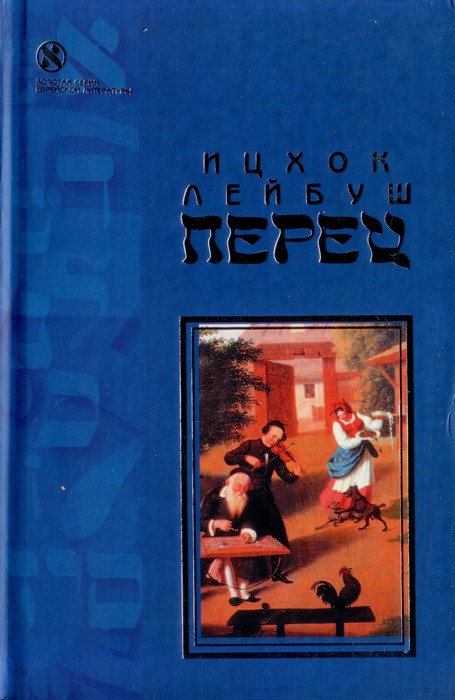кровати, литвак под кроватью…
Вскоре слышит литвак, в доме заскрипели кровати; домашние поднимаются. Бормочут краткую утреннюю молитву… Слышен плеск омовения. Стучат, открываясь и закрываясь, двери. Все уходят. Опять тихо и темно. Сквозь щели ставней пробивается бледное лунное мерцание. Сознался литвак, что, когда он остался один с рабби, на него напал страх. Вся кожа на нем запупырилась, как у испуганного гуся, и корни волос на висках начали колоть, как иголки. Шутка ли сказать: во время слихос оставаться наедине с рабби в одной комнате.
Но литвак ведь упорен: дрожит, зуб на зуб не попадает, а лежит.
Наконец, рабби встает; умывает руки, тихо читает молитву, как надлежит всякому еврею. Потом подходит к платяному шкафу и вынимает оттуда узел… Из узла появляется мужицкое платье: холщевые портки, огромные сапожищи, сермяга, большая баранья шапка и широкий кожаный пояс, обитый медными штифтиками.
Рабби все это надевает на себя…
Из кармана сермяги торчит конец веревки, обыкновенной грубой веревки.
Рабби идет, литвак за ним!
Мимоходом рабби заходит в кухню, нагибается под кровать и вытаскивает оттуда топор. Он засовывает топор за пояс и выходит на улицу.
Литвак весь дрожит, но не отстает ни на шаг.
Робкая, благоговейная тишина царит в темных уличках. Кое-где вырывается стонущий звук слихос из какой-нибудь молельни… Кое-где из-за оконных стекол доносится стон больного… Рабби держится все больше в сторонке, в тени домов и заборов… Временами фигура его выходит из тени; литвак все шагает за ним.
И слышит литвак, как биение его собственного сердца сливается со- стуком тяжелых шагов, рабби, но он идет дальше. И так выходят они за город.
За городом — роща.
Рабби заворачивает туда и, пройдя шагов тридцать-сорок, останавливается возле дерева. Литвак вне себя от изумления: рабби вынимает из-за пояса топор и принимается рубить дерево. Рабби рубит, рубит; деревцо трещит и падает. Рабби разрубает его на поленья, затем, расколов, увязывает веревкой в вязанку и, вскинув ее на плечи, засовывает топор за пояс и направляется из лесу обратно в город.
В каком-то переулке рабби останавливается у бедной, полуразвалившейся избенки и стучит в окошко.
— Кто там? — раздается испуганный голос, и литвак слышит, что это голос больной женщины.
— Я, — отвечает рабби по-мужицки.
— Кто "я"? — опять спрашивают из избенки.
— Василь! — отвечает рабби.
— Какой такой Василь и что тебе надо?
— Дрова маю продаваты, — отвечает мнимый Василь по-украински, — вязанку дров… и дешево, почти даром…
И, не дожидаясь ответа, он заходит в избенку.
Литвак прокрадывается туда же. При сером утреннем полумраке перед ним — бедная комнатка с убогой и поломанной утварью; на постели, под грудой тряпья, больная женщина. И говорит она с отчаяньем Василю:
— Купить?.. А на что купить? Откуда мне, бедной вдове, взять деньги?
— Я тебе в долг поверю, отвечает переодетый рабби, — всего шесть грошей.
— А где я возьму, чтобы уплатить тебе? — стонет несчастная.
— Глупый ты человек! — строго возражает рабби. — Смотри, ты бедная, больная женщина, и я тебе верю в долг… Я уверен, что ты заплатишь… Ты имеешь такого великого и всесильного бога и… не доверяешь ему?! И не надеешься на него даже на какие-нибудь шесть грошей за вязанку дров!..
— А кто затопит? — жалобно спрашивает больная. — Разве я в силах встать? Сын не вернулся с работы…
— Я затоплю! — отвечает рабби.
Накладывая дрова в печь, рабби, стеня и вздыхая, прочитал первую главу из слихос. Когда же он затопил и дрова весело запылали, он уже несколько бодрее стал читать вторую главу.
Третью главу рабби прочитал, когда печка истопилась и он закрыл трубу.
Литвак, все это видевший, с тех пор остался уже навсегда немировским хасидом.
Впоследствии, когда, бывало, какой-нибудь хасид начнет рассказывать, что во время слихос немировский рабби поднимается каждое утро на небо, литвак уже не смеется, но тихо добавляет:
— Если не выше еще!..
1891
Перевод с еврейского А. Макаров.
Хаим — носильщик.
Когда он проходит по улице, согнувшись под ящиком с товаром, его совсем не видно: кажется, что ящик шагает сам на двух ногах. Тяжелое дыхание, однако, слышно издали.
Но вот он, сняв с себя ящик, ставит его наземь: он получает заработанные им гроши. Выпрямившись и глубоко вздохнув, он отвязывает полы халата, отирает пот с лица; затем, подойдя к колодцу, выпивает несколько глотков воды и забегает в какой-то двор. Там он становится возле стены и подымает громадную голову так, что кончик бороды, нос и козырек картуза у него на одной линии. Он кричит:
— Ханэ!
Под крышей открывается окошко, и маленькая женская головка в белом чепчике отвечает:
— Хаим?!
Муж и жена смотрят друг на друга с большой нежностью. "Любезничают", говорят соседи. Хаим бросает вверх свой заработок, завернутый в бумажку. Ханэ ловко хватает бумажку. Это ей не впервые.
— Молодчина! — говорит Хаим и продолжает стоять. Ему не хочется уходить.
— Ступай, Хаим, ступай! — улыбается Ханэ. — Мне нельзя отойти от больного ребенка… Я поставила люльку возле печки, рукою снимаю пену с горшка, ногою качаю…
— Как он, бедняжка, теперь?
— Ему лучше.
— Слава богу. А Геня?
— У швеи.
— А Иосель?
— В хедере.
Хаим опускает бороду и уходит, а Ханэ следит за ним, пока он не скроется.
По четвергам и пятницам разговор продолжается дольше.
— Сколько в бумажке? — спрашивает Ханэ.
— Двадцать два гроша.
— Боюсь, мало будет.
— А чего тебе недостает, Ханэ?
— Мазь нужно купить для ребенка за шесть грошей, свечей на субботу. Хала у меня уже есть, мясо тоже — полтора фунта. Ну, недостает водки для кидуш. Еше нет щепок.
— Щепок я тебе принесу; на базаре, верно, найдется.
— Потом еще нужно…
И она перечисляет, что ей нужно на субботу. В конце концов оказывается, что кидуш можно произнести над халой и что вообще можно обойтись без многих вещей. Главное — это свечи и мазь для ребенка.
Все же, когда дети здоровы и медные подсвечники не заложены, у мужа с женой бывают очень веселые субботы, особенно, если еще есть кугл. Ибо Ханэ большая мастерица готовить кугл. Сначала у нее постоянно недостает чего-нибудь: то муки, то яиц, то жира; но, в конце концов, получается чудесный, сладкий кугл; он тает во рту, "расходится по всем суставам".
— Это ангелы готовили, — говорит Ханэ, радостно улыбаясь.
— Да, ангелы, наверно, ангелы. Ты тоже ангел, Ханэ. Сколько ты терпишь из-за меня и детей; сколько раз они тебя огорчают, и я тоже, когда рассержусь. Но разве я слышу от тебя ругань, как иные от