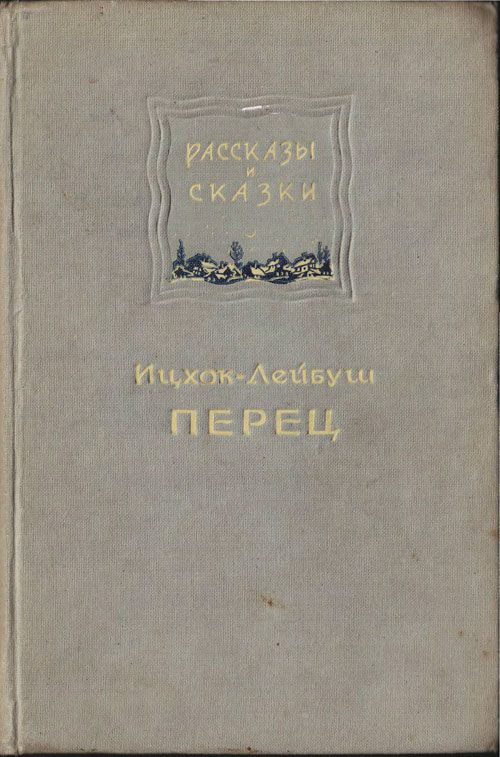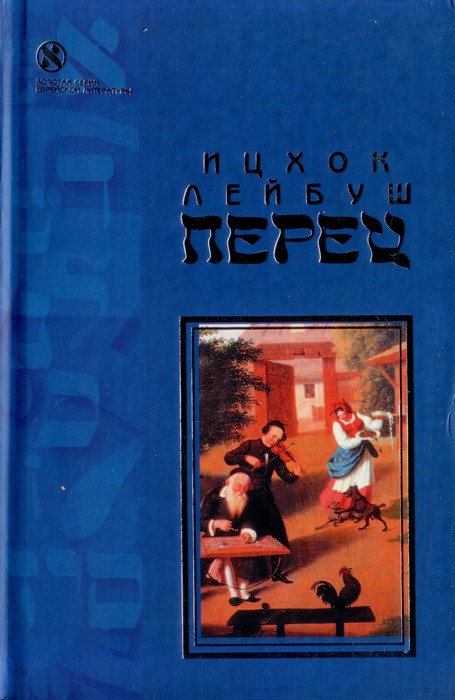Реб Довидл жил в Василькове, в Василькове, —
А теперь живет он в Тальном;
Реб Довидл, реб Довидл жил в Василькове,
Теперь живет в Тальном!..
Поют ее тальновцы, поют ее васильковцы. Но когда тальновцы поют, — это подлинный "фрейлахс", он искрится, брызжет радостью, блаженством; когда же поют васильковцы, — она пропитана унынием и скорбью…
А зависит это от души, которая вкладывается в мелодию.
. . . . . . . . . . . . .
Мелодия, должны вы знать, это сумма звуков или, как "те" говорят, тонов.
Звуки или тона берутся из природы; их никто не выдумывает, а в природе нет недостатка в звуках. У всего есть свой голос, свой собственный тон, если даже не целая мелодия.
Колеса святого престола, как нам известно, велегласны: "каждодневно, еженощно" у них свой хвалебный гимн… Люди и птицы поют… Звери и животные по-своему хвалу возносят… Камень о камень стучит, металл звенит… Вода, когда течет, тоже не молчит. Не говоря уже о лесе: при малейшем ветерке он поет этакую тихую, сладкую думку. А поезд, например, этот дикий зверь с огненно-красными глазами, — когда несется, разве не оглушает он своим пением? Даже рыба, тварь немая, и та, — я это сам вычитал в старой священной книге, — иногда издает звуки. Некоторые рыбы, сказано в той книге, подплывают время от времени к берегу, бьют хвостом о песок, о камни и этим несказанно наслаждаются…
Мало ли звуков? Надо лишь иметь ухо, чтоб их улавливать, как сетью, вбирать их, словно губка…
Но одни звуки — еще не мелодия!
Груда кирпичей — еще не дом!
Это только тело мелодии; ему нужна еще душа!
А душа песни — это уже чувство человека: его любовь, гнев, милосердие, месть, тоска, раскаяние, печаль, — все, все, что человек чувствует, он может вложить в мелодию, и мелодия — живет!
. . . . . . . . . . . . .
Ибо я, друзья мои, верю: то, что меня живит, само должно иметь жизнь, само живет!
И если мелодия меня живит, если я от мелодии получаю истинное наслаждение, если она вселяет в меня дух животворящий, — я говорю, что мелодия живет…
И доказательство: возьмите мелодию и рассеките ее. Пойте ее наоборот: начните с середины, а потом перейдите к началу и к концу. Разве получится у вас мелодия? В общем, все звуки налицо — ни один не пропущен, но нет души! Зарезали вы живую белую голубку, и под ножом улетела душа…
Остался мертвец, труп мелодии!..
В Тальном для всех ясно, как день, что мелодия живет…
. . . . . . . . . . . . .
И живет мелодия, и умирает мелодия, и забывается мелодия, как забывается покойник!
Юна и свежа была она когда-то, мелодия, молодостью и силой дышала она. С годами она ослабела, отжила свое время, и силы ее покинули… Выдохлась!.. Затем ее последнее дыхание улетело в воздух и там где-то испарилось — и нет ее больше!..
Но мелодия может и воскреснуть!..
Вспомнится вдруг старая мелодия. Неожиданно как-то выплывает она и рвется наружу. И невольно вкладываешь в нее новое чувство, новую душу — и вот уже почти новая мелодия живет…
Это уже перевоплощение мелодии…
. . . . . . . . . . . . .
Вы плохо меня понимаете?.. Ну да, толкуйте со слепым о свете!
Знаете что? Вы ведь любите всякие рассказцы, — так вот я вам расскажу историю о перевоплощении одной мелодии…
Слушайте!
В трех-четырех милях под Бердичевом, сейчас же за лесом, находится местечко Махновка. А в этой самой Махновке была неплохая капелла музыкантов. Но глава их (реб Хаим его звали) — тот был настоящим артистом, учеником знаменитого бердичевского Педоцура.
Этот реб Хаим сам мелодий не создавал, то есть он не был композитором, но исполнить вещь, со вкусом ее подать, истолковать ее, как следует, душу в нее вложить, — это он умел, в этом была его сила!
Человек это был худощавый, невзрачный. Но, начав играть, он вдруг преображался: всегда опущенные веки подымались, и из тихих глубоких глаз струилось сияние, одухотворявшее сразу это бледное лицо. И видать было воочию, что он сейчас совсем в ином мире… Руки играют сами по себе, а душа витает где-то там высоко-высоко, в мире звуков… Часто он забывался, начинал также петь. А голос у него был — кларнет! — такой же чистый и ясный…
Не будь этот Хаим обыкновенным набожным евреем, почти, можно сказать, блаженным, он не стал бы, конечно, мучиться с семьей в восемь человек в Махновке! Он бы, вероятно, уже играл или пел в каком-нибудь театре, либо сделался бы хористом в синагоге, ну… в Берлине или Париже. Но такие уж люди в Бердичеве… Сидит себе этот блаженный Хаим дома, забирает в долг во всех мелочных лавочках в счет будущей зажиточной свадьбы, которая должна же когда-нибудь состояться.
И вот как-то раз случилась-таки богатая свадьба. И у самой что ни на есть махновской знати — у вдовы Берла Кацнера.
Сам Берл Кацнер — да икнется ему на том свете! — был лютым ростовщиком, а скрягой еще большим! Жалел кусок, который клал себе в рот. Когда ребятишки ели, он ходил за ними и собирал крошки… Камень — не сердце было у этого человека!
Перед смертью, почти в последние минуты, подзывает это он старшего сына, велит подать себе книгу записей и посиневшим пальцем указывает, с кого еще не взыскано аренды. "А отсрочить, — говорит он, — боже тебя упаси! Слышишь? Таков мой тебе родительский наказ!.."
Затем он подзывает жену и велит ей спрятать медную посуду, что висит на стене: "Стоит мне закрыть глаза, — говорит он, — как все растащат!.." — С этими вот словами он испустил дух…
А оставил он полмиллиона!
Как сказано, дочку выдает замуж вдова, а она торопится, она сама собирается обзавестись мужем. Тут у нее прямо-таки гора с плеч…
И так как Хаиму-музыканту тоже надо во что бы то ни стало выдать дочку замуж, то он уж, разумеется, свадьбы ждет, как Мессию.
Вдове же вдруг взбрело в голову непременно выписать Педоцура из Бердичева.
Собственно, почему? — Будут киевские гости, киевские знатоки музыки, так вот она хочет, чтобы к венчанию сыграли "поминальную" на новый мотив. "Не какое-нибудь, — говорит она, — старье! Такие большие расходы, так будет стоить еще немного, — и пусть знают киевляне!.."