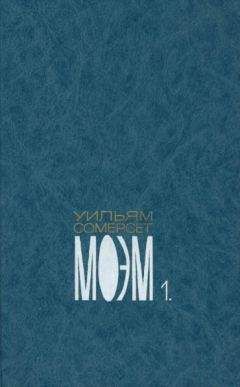— Ты обидел Эмили,— сказала тетя Луиза.— Она ушла в свою комнату и плачет.
— Почему?
— Ты что-то сказал насчет мазил. Сходи к ней и объясни, что не хотел ее обидеть, будь хорошим мальчиком.
— Ладно.
Он постучался в дверь ее комнаты и, не услышав ответа, вошел. Мисс Уилкинсон лежала ничком на постели и плакала. Он дотронулся до ее плеча.
— Послушай, что случилось?
— Оставь меня в покое. Я не желаю с тобой разговаривать.
— Что я сделал? Прости, пожалуйста, если я тебя обидел. Я, право же, не хотел. Ну пойдем.
— Ах, какая я несчастная! А ты ужасно бессердечный. Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту дурацкую игру. Я играю в нее только для того, чтобы побыть с тобой.
Она поднялась и подошла к туалету, но, взглянув на себя в зеркало, опустилась на стул. Скомкав носовой платок, она приложила его к глазам.
— Я дала тебе все, что может дать женщина... Ну и дура... А тебе хоть бы что. У тебя такое черствое сердце. Мучаешь меня, флиртуя с первыми попавшимися девчонками. У нас и так осталась одна-единственная неделя. Неужели ты не можешь потерпеть и побыть со мной?
Филип угрюмо стоял перед ней. Ее поведение казалось ему ребяческим. Он сердился, что она выставляет напоказ перед посторонними свой дурной характер.
— Ты же знаешь, что мне наплевать на этих О'Коннор. Что тебе взбрело в голову?
Мисс Уилкинсон отложила носовой платок. По ее напудренным щекам тянулись подтеки от слез, а волосы растрепались. Белое платье было ей сейчас вовсе не к лицу. Она смотрела на Филипа горящими голодными глазами.
— Тебе двадцать лет, и им тоже,— хрипло прошептала она.— А я стара.
Филип покраснел и отвернулся. Он услышал в ее голосе боль, и ему стало как-то не по себе. Сейчас ему от души хотелось, чтобы между ними никогда ничего не было.
— Я вовсе не хочу тебя огорчать,— пробормотал он.— Лучше бы ты спустилась вниз к гостям. Не то они будут удивлены, куда ты девалась.
— Хорошо.
Он рад был от нее уйти.
За ссорой быстро последовало примирение, однако в последние дни она часто была ему в тягость. Ему не хотелось говорить ни о чем, кроме будущего, а это неизменно доводило мисс Уилкинсон до слез. Поначалу ее слезы его трогали: он чувствовал себя извергом и заверял ее в любви до гроба; но потом они стали его раздражать: будь она молоденькой девушкой — куда ни шло, но со стороны взрослой женщины было просто глупо без конца проливать слезы. Она не переставала напоминать ему, что он перед нею в неоплатном долгу. Поскольку она на этом настаивала, он не возражал, но в глубине души никак не мог понять, почему он должен быть благодарен ей больше, чем она ему. К тому же она требовала, чтобы он выказывал свою благодарность самым тягостным для него образом; он привык к одиночеству и иногда испытывал острую потребность в нем; она же считала его бессердечным, если он не находился все время рядом с ней. Девицы О'Коннор пригласили их обоих на чашку чаю, и Филип с удовольствием принял бы приглашение, но мисс Уилкинсон заявила, что у них осталось всего пять дней и она ни с кем не желает его делить. Все это льстило его самолюбию, но очень надоедало. Мисс Уилкинсон рассказывала Филипу о душевной чуткости французов, когда они находились в таких же отношениях со своей прекрасной дамой, в каких Филип находился с ней. Она восторгалась их галантностью, их готовностью к самопожертвованию, исключительным тактом. Выяснилось, что у мисс Уилкинсон поистине непомерные требования.
Филип, слушая, как она перечисляет все то, чем должен обладать безупречный любовник, радовался в душе, что она живет в Берлине.
— Ты будешь мне писать? — спрашивала она.— Пиши каждый день. Я хочу знать все, что ты делаешь. Ты ничего не смеешь от меня скрывать.
— Я буду страшно занят,— отвечал он.— Но постараюсь писать как можно чаще.
Она страстно обвила его шею руками. Такие проявления чувств порой смущали его не на шутку. Он предпочел бы, чтобы она вела себя менее активно. Ему было стыдно, что инициатива в их отношениях так откровенно принадлежит ей: это как-то не вязалось с его представлениями о женской скромности.
Наконец настал день отъезда мисс Уилкинсон; она спустилась к завтраку бледная, подавленная, на ней было клетчатое немаркое дорожное платье, и в этом наряде она выглядела настоящей гувернанткой. Филип молчал — он не знал, что полагается говорить в таких случаях, и страшно боялся сказать что-нибудь легкомысленное: мисс Уилкинсон тогда не сдержалась бы и устроила ему сцену в присутствии дяди. Они простились друг с другом в саду, накануне вечером, и Филип обрадовался, что им больше не придется остаться наедине. После завтрака он нарочно задержался в столовой, чтобы мисс Уилкинсон не вздумала поцеловать его на лестнице. Меньше всего на свете он хотел попасться Мэри-Энн — теперь уже женщине средних лет с весьма острым язычком. Мэри-Энн не любила мисс Уилкинсон и звала ее драной кошкой.
Тете Луизе нездоровилось, и она не смогла пойти на вокзал; мисс Уилкинсон провожали священник и Филип. Перед самым отходом поезда она высунулась из окна и поцеловала мистера Кэри.
— Я должна поцеловать и вас тоже, Филип,— сказала она.
— Пожалуйста,— ответил он, покраснев.
Он встал на ступеньку, и она торопливо его чмокнула. Поезд тронулся, мисс Уилкинсон забилась в угол купе и безутешно зарыдала. На обратном пути с вокзала Филип почувствовал явное облегчение.
— Ну как, уехала благополучно? — спросила тетя Луиза, когда они вернулись домой.
— Да, но глаза у нее были на мокром месте,— ответил священник.— Ей непременно захотелось поцеловать меня и Филипа.
— Ну, в ее возрасте это не опасно. Филип, тут тебе письмо.— Миссис Кэри показала на буфет.— Его только что принесли.
Письмо было от Хейуорда; оно гласило:
«Мой милый мальчик!
Я сразу же отвечаю на твое письмо. Я решился его прочитать моему близкому другу, очаровательной женщине, поддержка и сочувствие которой мне несказанно дороги, женщине, одаренной тонким пониманием литературы и искусства; мы оба сошлись на том, что твое письмо прелестно. Ты писал его от чистого сердца и даже не представляешь себе, сколько очаровательной наивности в каждой его строке. Любовь сделала тебя поэтом. Ах, милый мальчик, вот оно, настоящее чувство. Я ощутил пыл твоей юной страсти; твоя повесть, пронизанная искренним волнением, звучит как музыка. Будь же счастлив. Мне хотелось бы незримо присутствовать в этом зачарованном саду, где вы бродите среди цветов, держась за руки, словно Дафнис и Хлоя. Я вижу тебя, мой Дафнис,— нежный, восторженный и пылкий,— с огнем юной любви в глазах; я вижу в твоих объятиях Хлою — такую молодую, свежую и покорную,— она твердила «нет», но сказала «да». Розы, фиалки и жимолость... Ах, мой друг, как я тебе завидую. Отрадно думать, что твоей первой любви удалось остаться чистой поэзией. Цени каждое ее мгновение, ибо бессмертные боги одарили тебя величайшим даром; ты сохранишь его в памяти до последнего смертного часа, как самое сладкое и томительное из воспоминаний. Никогда больше не испытаешь ты столь безмятежного блаженства. Первая любовь — неповторимая любовь; твоя подруга прекрасна, ты молод, и весь мир у ваших ног. Сердце мое забилось быстрее, когда я прочел простодушные восхитительные слова о том, как ты погружаешь лицо в волны ее кудрей. Я убежден — они того редкостного каштанового цвета, который чуть-чуть отливает золотом. Так и вижу: вот вы сидите рядом под тенистым деревом, читая «Ромео и Джульетту», и вдруг ты падаешь перед ней на колени и целуешь ту землю, на которой оставила след ее ножка. Мысленно я припадаю к этой земле вместе с тобой; скажи ей, что это дань преклонения поэта перед ее сияющей юностью и перед твоей любовью.
Навеки твой
Дж. Этеридж Хейуорд».
— Ужасный вздор,— сказал Филип, дочитав письмо.
Странно, мисс Уилкинсон тоже предлагала им читать вместе «Ромео и Джульетту», но Филип наотрез отказался. И, пряча письмо в карман, он почувствовал легкую горечь: как мало похожа действительность на то, о чем мы мечтаем.
Через несколько дней Филип уехал в Лондон. Помощник приходского священника рекомендовал ему меблированные комнаты в Барнсе, и Филип, списавшись с хозяйкой, снял квартиру за четырнадцать шиллингов в неделю. Он приехал вечером, и хозяйка — комичная тощая старушка с морщинистым личиком — подала ему чай со множеством всяких закусок. Большая часть гостиной была заставлена буфетом и четырехугольным столом; у стены красовалась кушетка, набитая волосом, а у камина — такое же кресло; спинка его была прикрыта салфеточкой, а продавленное сиденье — жесткой подушкой.
Выпив чаю, Филип разложил свои вещи, расставил книги, сел и попытался читать, но настроение у него было подавленное. Тишина на улице почему-то угнетала его, и он почувствовал себя очень одиноким.
Наутро Филип встал очень рано. Он надел визитку и цилиндр, но цилиндр был старенький — он носил его еще в школе, и Филип решил зайти по дороге в универсальный магазин и купить новый. Сделав это, он обнаружил, что у него еще уйма времени, и пошел прогуляться по Стренду. Контора Герберта Картера и К° помещалась на узенькой улочке возле Чансери-лейн, и ему пришлось раза два спросить дорогу. Он заметил, что на него оглядываются прохожие, и даже снял шляпу, чтобы проверить, не забыли ли в магазине снять с нее ярлык с ценой. Подойдя к конторе, Филип постучал, но никто ему не открыл, и, взглянув на часы, он обнаружил, что еще нет половины десятого. По-видимому, он пришел слишком рано. Филип отошел, а вернувшись через десять минут, застал рассыльного — прыщавого юношу с длинным носом, говорившего с шотландским акцентом,— он отпирал дверь. Филип спросил, может ли он видеть мистера Герберта Картера. Но тот еще не приходил.