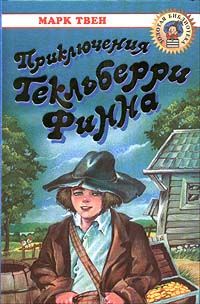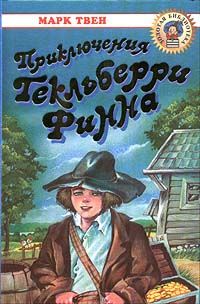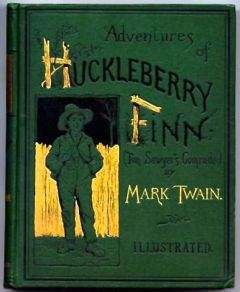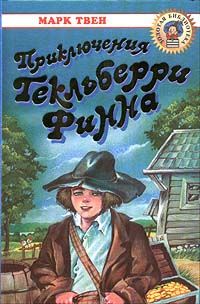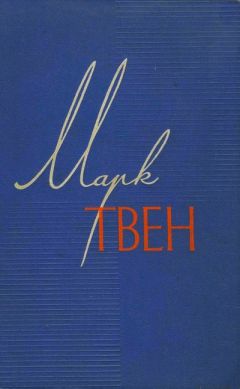Король поплёлся в шалаш и приложился к бутылочке утешения ради; а там и герцог тоже взялся за бутылку; и через какие-нибудь полчаса они опять были закадычными друзьями, и чем больше пили, тем любовней обращались друг с другом, а напоследок мирно захрапели, обнявшись. Оба они здорово нализались, но только я заметил, что король хоть и нализался, а всё-таки ни разу не забылся и не сказал, что это не он украл деньги. А по мне, тем лучше: от этого у меня на душе только сделалось легче и веселей. Само собой, после того как они захрапели, мы с Джимом наговорились всласть, и я ему всё рассказал.
Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, и всё плыли да плыли вниз по реке. Теперь мы были на Юге, в тёплом климате, и очень далеко от дома. Нам стали попадаться навстречу деревья, обросшие испанским мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растёт, и лес от этого казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что теперь им нечего бояться, и опять принялись околпачивать народ в городах.
Для начала они прочли лекцию насчёт трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе школу танцев; а сами танцевали не лучше кенгуру, – и как только они выкинули первое коленце, вся публика набросилась на них и выпроводила вон на города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству; только недолго разглагольствовали: слушателя не выдержали, разругали их на все корки и велели убираться из города. Пробовали они и проповеди, и внушение мыслей, врачевание, и гадание – всего понемножку, только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожились дочиста и по целым дням валялись на плоту – всё думали да думали и друг с другом почти не разговаривали, такие были хмурые и злые.
А потом они вдруг встрепенулись, стали совещаться о чём-то в шалаше, потихоньку от нас, всё шёпотом и часа по два, по три кряду. Мы с Джимом забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думаем: наверно, затевают какую-нибудь новую чертовщину, ещё почище прежних. Мы долго ломали себе голову и так и эдак и в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку, а то, может, собираются делать фальшивые деньги. Тут мы с Джимом здорово струхнули ж уговорились так: что мы к этим их делам никакого касательства иметь не будем, а если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерём, бросим их, и пускай они одни остаются.
Вот как-то ранним утром мы спрятали плот в укромном месте, двумя милями ниже одного захолустного городишка по прозванию Пайксвилл, и король отправился на берег, а нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится, дошли сюда слухи насчёт «Королевского Жирафа» или ещё нет. («Небось дом ограбить собираешься! – думаю. – Потом вернёшься сюда, а нас с Джимом поминай как звали, – с тем и оставайся».) А если он к полудню не вернётся, то это значит, что всё в порядке, и тогда нам с герцогом тоже надо отправляться в город.
И мы остались на плоту. Герцог всё время злился и раздражался и вообще был сильно не в духе. Нам за всё доставалось, никак мы не могли ему угодить, – он придирался к каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли, это уж как пить дать. Настал и полдень, а короля всё не было, и я, признаться, очень обрадовался, – думаю: наконец хоть какая-то перемена, а может случиться, что всё по-настоящему переменится. Мы с герцогом отправились в городок и стали там разыскивать короля и довольно скоро нашли его в задней комнате распивочной, вдребезги пьяного; какие-то лодыри дразнили его забавы ради; он ругал их на чём свет стоит и грозился, а сам на ногах еле держится и ничего с ними поделать не может. Герцог выругал его за это старым дураком, король тоже в долгу не остался, и как только они сцепились по-настоящему, я и улепетнул – припустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думаю, случай-то, теперь не скоро они нас с Джимом опять увидят! Добежал я к реке, весь запыхавшись, зато от радости ног под собой не чую и кричу:
– Джим, скорей отвязывай плот, теперь у нас с тобой всё в порядке!
Но никто мне не откликнулся, и в шалаше никого не было. Джим пропал! Я крикнул, и в другой раз крикнул, и в третий; бегаю по лесу туда и сюда, зову, аукаю – никакого ответа, пропал старик Джим! Тогда я сел и заплакал – никак не мог удержаться от слёз. Только и сидеть я долго не мог. Вышел на дорогу, иду и думаю: что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка; я его и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то, а он и говорит:
– Видал.
– А где? – спрашиваю.
– На плантации Сайласа Фелпса, отсюда будет мили две. Это беглый негр, его уже поймали. А ты его ищешь?
– И не думаю! Я на него нарвался в лесу час или два назад, и он сказал, что, если я только крикну, он из меня дух вышибет, – велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боялся выйти.
– Ну, – говорит мальчишка, – тебе больше нечего бояться, раз его поймали. Он убежал откуда-то издалека, с Юга.
– Это хорошо, что его сцапали.
– Ещё бы не хорошо! За него ведь полагается двести долларов награды. Всё равно что на дороге найти.
– Ну да, я бы тоже мог получить награду, если бы был постарше: ведь я первый его увидел. А кто же его поймал?
– Один старик, приезжий; только он продал свою долю за сорок долларов, потому что ему надо уезжать вверх по реке, а ждать он не может. Подумать только! Нет, я бы подождал – пускай бы и семь лет пришлось ждать.
– И я тоже, обязательно, – говорю я. – А может, его доля больше и не стоит, раз он продал так дёшево? Может, дело-то не совсем чистое?
– Ну, как же не чистое – чище не бывает. Я сам видел объявление. Там про него всё написано, точка в точку сходится – лучше всякого портрета, а бежал он из-под Нового Орлеана, с плантации. Нет, уж тут комар носу не подточит, всё правильно… Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать?
Табаку у меня не было, и он пошёл дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаш и стал думать. Но так ничего и не придумал. Думал до тех пор, пока всю голову не разломило, и всё-таки не нашёл никакого способа избавиться от беды. Сколько мы плыли по реке, сколько делали для этих мошенников, и всё зря! Так всё и пропало задаром, из-за того что у них хватило духу устроить Джиму такую подлость: опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые сорок долларов, да ещё чужим людям!
Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше оставаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не написать ли мне письмо Тому Сойеру? Пускай он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему: а вдруг она рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от неё, и опять продаст его? А если и не продаст, всё равно добра не жди: все будут презирать такого неблагодарного негра, – это уж так полагается, – и обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А моё-то положение! Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться; и если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то, верно, со стыда готов буду сапоги ему лизать. Это уж всегда так бывает: сделает человек подлость, а отвечать за неё не хочет, – думает: пока этого никто не знает, так и стыдиться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я думал, тем сильней меня грызла совесть, я чувствовал себя прямо-таки дрянью, последним негодяем и подлецом. И наконец меня осенило: ведь это, думаю, явное дело – рука провидения для того и закатила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим поведением, и там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око, оно не потерпит нечестивого поведения, а мигом положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я всё-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание; думаю: ничему хорошему меня не учили, значит, я уж не так виноват; но что-то твердило мне: «На то есть воскресная школа, почему же ты в неё не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру, то за это будет веки вечные гореть в аду».
Меня просто в дрожь бросило. И я уже совсем было решил: давай попробую помолюсь, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И стал на колени. Только молитва не шла у меня с языка. Да и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть это от бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться. Потому что я кривил душой, не по-честному поступал – вот почему. Притворялся, будто хочу исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести, будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится, а в глубине души знал, что всё вру, и бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься, – это я понял.