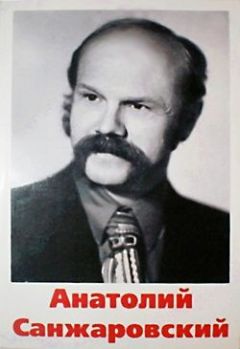ни в какие силы не пускает из дому. Надо ж, ногу ещё подломила. Заковали в гипс на веки вечные. Вроде не болько болит, а не даёт ступить…
Таисия Викторовна, миленькая, я верю Вам и верю себе, пойдёт Ваше лечение в пользу. Я всё выполню, что скажете… Не дайте потерять детям мать… Не спокиньте… Не знаю, чем Вам буду благодарна и чем отблагодарю за Ваше горячее старание… Мне б вползти в здоровье хоть бы ещё годочка на четыре… Подростить, подбольшить бы своих горюшат… а там и… а там и… а там и…
На уклоне дня наши спасительницы, скользя и кувыркаясь в бездонные снега, наконец-то выкружили к банёшке. Унылой, обшорканной.
Воистину, баня всех моет, а сама вся в грязи.
Лариса тоскливо поморщилась, глядя на неё и проходя мимо, но Таисия Викторовна, всё так же клещом державшаяся за верх внучкиной руки, дёрнула её книзу и устало, разбито показала на дверь. Нам сюда!
— Бабушка! Вы что тут забыли?
— Здоровье мы тут забыли, Ларик, — назидательно ответила бабушка. — Не знаю, как ты, а я вся… Неделю волосы не мыла… грязные… Того и жди, вырастет репа на голове. Да и… Ног до дома не донесу… До смерточки стомилась… Всякую болячку приложи… примерь к себе… Исплакалась душа…
Лариса поражённо остановилась. Это-то у бабушки исплакалась на обходе душа? Что-то новое. Лариса никогда не слышала, чтоб бабушка жаловалась. Напротив. На обходах бабушка всегда расцветала, радовалась каждому больному, радовалась тому, что может помочь. Боль искала врача, и она его находила. Чего же жаловаться?
Мимо прошил тощий мужичонка с запашистым берёзовым веником под мышкой — в зимний холод всякий молод! — мурча под нос, напевая с ростягом:
— Блошка банюшку топила,
Вошка парилася,
С полка ударилася…
Что там в пробаутке дальше было и было ль, Лариса не узнала. Мужичонка дёрнул в банную дверину, с лица заледенелую, а изнутри распаренную, вспотелую, и растаял в туго ударивших встречно клочьях весёлого пара.
— Ларик! Ты ли не сибирочка? Ты чего упираешься? Уж кто-кто, а тебе сам Бог велит сегодня выбаниться.
— По случаю приезда?
— Естественно. Баня — мать вторая, и после поезда к кому как не к ней идти?
Бабушка замолчала, не решаясь говорить то, что само катилось на язык, и, немного поколебавшись, озоровато-радостно воскликнула:
— А главное, баня смоет слёзки, шайка сполоснёт. Ты ж вся просолела, поди, от слёз!
Алость расплеснулась по девичьим щекам. Ларисе стало стыдно, что бабушка-то, оказывается, видела её слёзы.
Но как она могла видеть?
По обычаю, Лариса становилась всегда у изголовок. Больная видеть её не могла, это уже точно-наточно. Не могла и бабушка её видеть, поскольку у бабушки была раз и навсегда наработанная на обходах манера держаться с больной. Бабушка подсаживалась, брала её руку в свои и напрочно уходила в расспросы. Бабушка никогда не отвлекалась на постороннее, не снимала с больной глаз. В то время, когда бабушка сидит у постели, кроме больной для неё не существовало в целом мире ни одной другой души.
Горячечные мольбы спасти переворачивали неокрепшую, молодую душу. Лариса не выдерживала, слёзы сами собой бежали, и она, пряча их, то вытиралась тихонечко рукавом, отвернувшись перед тем, то промокала краем платка.
Собираясь уходить, одеваясь, Лариса отводила от бабушки лицо, набрякшее от слёз, старалась не смотреть на неё, пока не отходила на морозе — и на! Оказывается, она видела! Но когда? Когда?
— Ларик, сладенькая, ты не стесняйся своих слёзок. Не разучившийся сам плакать всегда увидит и услышит плачущего. Что же в этом стыдного?
Было это сказано тем хорошим, ласково-врачующим тоном, отчего Лариса просветлённо улыбнулась, согласно спросила:
— А веники? А прочее банное приданое? Рыльное-мыльное там?…
— Всё в твоей сумке… Заране напихала. Как же без веника? Веник в бане господин, всем начальник. Веник, говаривала моя мама, и царя старше, и царя самого в бане хлестал, а тот только крякал… Веник, не бойся, и про тебя живёт. Взяла и дубовые, и пихтовые, и крапивные.
— Я к крапивным не могу привыкнуть. Боюсь ожгусь.
— Э-э!.. На пару жигучка теряет, сворачивает свои иголки. Делается некусачей, шелковистой. Хлещись на здоровье! И вообще крапивка-огонь низкого поклона стоит. На крапивушке народ голод пережил. Заправляли только молоком и никто не умер.
Бабушка мягко подтолкнула Ларису.
Они вошли.
У буфета мужики запивали баню пивом.
— Ну! — весело сказала бабушка. — Мама моя ещё говаривала: вот тебе баня ледяная, веники водяные. Парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались. Болести в подполье с водой, на тебя здоровье!
А после ужина они вслух читали астафьевскую «Царь-рыбу».
Читала Лариса.
Бабушка зачарованно вслушивалась в то, про что так волшебно рассказывала книга.
Книги она любила. Абы какую не возьмёт, а за хорошей и погоняется, и побегает. Пускай вон три года томилась в библиотечной очереди на «Царь-рыбу», так зато теперь цветёшь, молодеешь за такой книгой.
Записалась ещё на шукшинский роман «Я пришёл дать вам волю». Только вот так, по записи, и почитаешь своих громких сибиряков.
Уже в обычай легло, каждый вечер два часа перед сном отдавались книгам. В эти железные два часа ничто иное не могло войти.
Но прошли и два часа, прошли и три, а чтение всё лилось. Масляным грибом бабушка заглядывала Ларисе в рот, с полна сердца радуясь, что и внучке книга к душе, иначе б наверняка зажаловалась, что устала, и тогда против усталости разве пикнешь?
Уже потом, без огня, лёжа в постелях, они долго молчали, каждая держа в себе то чарующее биение восторга, что пролился со вседобрых, с колдовских астафьевских страниц.
«Отчего так легко? Отчего такой свет на душе в эту страшную ночь? — думает Таисия Викторовна, вслушиваясь в гибельный, в бранный рёв урагана за бревенчатой стеной. — Наверное, и от книги… и от веника… Под веником, под паром омолодели сухие косточки… И от сознания, что наконец-то выскочила из томкого плена этих восьми великомучениц. Когда знаешь, что где-то над болью сидит человек, и ты ему не помог, что может быть врачу тяжелей? Но сегодня всех обскакала… Всем разнесла свои капельки… Скала с плеч… Как говорили древние, кого не излечивают лекарства, того излечивает природа… Я чиста перед людьми… чиста…»
— Бабушка! — тихо позвала Лариса. — Вы ничего не слышите?
— Кроме тебя никого.
— Вроде как ворона керкает…
Бабушка придержала дыхание, вслушалась в заоконную кутерьму. В скорбный плач