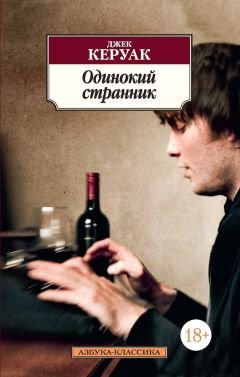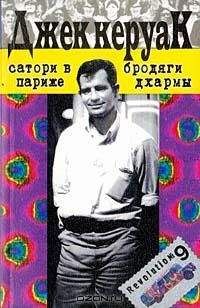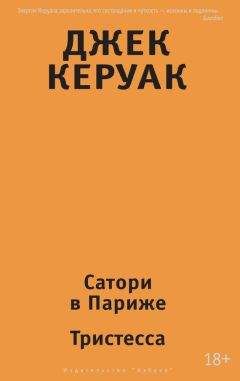Гога, унылые утесы вдали… В Авиньоне я слез пересесть на Парижский экспресс. Билет я купил до Парижа, но ждать нужно было много часов, и я скитался под конец дня вдоль по главной топталовке — тысячи людей в воскресном и лучшем вышли на свою унылую нескончаемую провинциальную прогулку.
Я забрел в музей, заставленный каменной резьбой времен папы Бенедикта XIII, включая одну великолепную резьбу по дереву, показывающую Тайную вечерю с нахохленными апостолами, горюющими голова к голове; Христос посрединке, рукой вверх, как вдруг одна сгорбленная голова, заглубленная в барельеф, глядит прямо на тебя, и это Иуда! Дальше по проходу один доримский, явно кельтский монстр, сплошь резаный камень. И затем наружу в брусчатый задворок Авиньона (города пыли), переулки грязнее, чем в мексиканских трущобах (как в Новой Англии улочки возле свалки в тридцатых), а в канавах со средневековой помойной водой женские туфли, и повдоль каменной стены оборванная детвора играет в заброшенных вихрях мистрального праха, тут и Ван Гог разрыдается.
И знаменитый многовоспетый мост Авиньона, каменный, уже полупропавший в веснохлещущей Роне, со средневековостенными за́мками на горизонтовых холмах (теперь для туристов, некогда баронский замок — опора города). Нечто вроде малолетних преступников шляются по воскресной предвечерней пыли у Авиньонской стены, куря запретные «бычки», девчонки-тринадцатилетки щерятся на высоких каблуках, и дальше по улице крошка-дитя играет в водянистой канаве со скелетом куклы, колотя по перевернутой ванне для ритма. И старые соборы в городских переулках, старые церкви ныне просто крошащиеся реликвии.
Нигде на свете нет ничего унылее воскресного дня с мистралем, дующим по брусчатым задворкам бедного старого Авиньона. Когда сидел в кафе на главной улице и читал газеты, я понимал жалобу французских поэтов на провинциализм, убогий провинциализм, что свел с ума Флобера и Рембо, а Бальзака заставил задуматься.
Ни одной красивой девушки в Авиньоне не видно, кроме того кафе, и та потрясная гибкая роза в темных очках, поверяющая свои любовные секретики подружке за столиком рядом с моим, а снаружи множества бродили взад-вперед, взад-вперед, туда-сюда, пойти некуда, делать нечего. Мадам Бовари за кружевными занавесками заламывает руки в отчаянии, герои Жене ждут ночи, юноша де Мюссе покупает билет на поезд в Париж. Что делать в Авиньоне воскресным днем? Сидеть в кафе и читать о возвращении местного клоуна, хлебать вермут да медитировать на резной камень в музее.
Мне, правда, перепала одна из лучших пятиблюдных трапез во всей Европе, в, судя по всему, «дешевом» ресторанчике на боковой улочке: хороший овощной суп, изысканный омлет, жаренный на огне заяц, чудесное картофельное пюре (протертое сквозь сито с кучей сливочного масла), полбутылки красного вина и хлеб, а затем еще и восхитительно вкусный открытый пирог с сиропом; все это, предположительно, за девяносто пять центов, но официантка задрала цену с 380 франков до 575, и я не обеспокоился оспаривать счет.
На железнодорожном вокзале я сунул пятьдесят франков в машину со жвачкой, которая не отдала, и все официальные лица крайне оголтело перекладывали ответственность друг на друга («Demandez au contrôleur!») и («Le contrôleur ne s’occupe pas de ça!»), и меня несколько обескуражила нечестность Франции, которую я сразу заметил на том адском пакетботе, особенно после честной набожности мусульман. Вот остановился поезд, в южном направлении на Марсель, и с него соступила старуха в черных кружевах, и пошла по перрону, и вскоре выронила одну свою черную кожаную перчатку, и хорошо одетый француз подскочил и поднял перчатку, и выложил ее исправно на столбик, поэтому мне пришлось эту перчатку схватить и бежать за старухой, и ей ее отдавать. Там-то я и понял, почему гильотину усовершенствовали французы — не англичане, не немцы, не датчане, не итальянцы и не индийцы, а французы, мой же собственный народ.
В довершение всего, когда пришел поезд, мест в нем абсолютно не было, и мне всю ночь пришлось ехать в холодном тамбуре. Когда меня смаривало сном, приходилось сплющивать рюкзак на хладно-железных дверях тамбура, и я ложился там, свернувшись, ноги вверх, а мы неслись сквозь неувиденные Провансы и Бургундии зубовноскрежетной французской карты. Шесть тысяч франков за эту великую привилегию.
Ах, но наутро, предместья Парижа, заря расплывается над угрюмой Сеной (подобно маленькому каналу), лодки на реке, внешние промышленные дымы города, затем Gare de Lyon, и стоило выйти на Boulevard Diderot, мне помстился мимолетный взгляд на длинные бульвары, ведущие во все стороны с громадными восьмиэтажными витиеватыми апартаментами с монаршими фасадами. «Да они соорудили себе город!» Затем, перейдя бульвар Дидро, выпить кофе, хороший эспрессо и круассаны в большом городском заведении, где полно рабочего люда, и сквозь стекло мне видны были женщины в настоящих длинных платьях, спешившие на мотоциклах на работу, и мужчины в дурацких защитных шлемах (La Sporting France), такси, широкие брусчатые улицы, и тот безымянный городской аромат кофе, антисептиков и вина.
Пешком, оттедова, холодным бодро-красным утром, по мосту Аустерлиц, мимо зоопарка на Quai St-Bernard, где в утренней росе стоял один маленький старый олень, затем мимо Сорбонны, и мой первый взгляд на Нотр-Дам, странный, как потерянный сон. А когда я увидел большую заиндевевшую женскую статую на бульваре Сен-Жермен, я вспомнил свой сон о том, что некогда был французским школьником в Париже. Я остановился в кафе, заказал «Чинзано» и понял, что суета с ходьбой на работу здесь та же, что и в Хьюстоне или Бостоне, и ничем не лучше, но я чуял огромное обещание, бесконечные улицы, улицы, девушек, места, смыслы и мог понять, почему американцы здесь оставались, некоторые и пожизненно. И первым человеком в Париже, на которого я взглянул на Лионском вокзале, был горделивый негр в хомбурге.
Что за нескончаемые человеческие характеры проходили мимо моего столика в кафе: старые французские дамы, малайские девушки, школьники, мальчики-блондины в колледж, высокие молодые брюнетки на занятия по юриспруденции, хипповатые прыщавые секретарши, обереченные очкастые писари, обереченные шарфастые разносчики молока в бутылках, коблы в длинных синих лабораторных халатах, хмурящиеся старшекурсники, шагающие в шинелях, как в Бостоне; задрипанные мелкие лягаши (в синих кепи), роются в карманах; хорошенькие блондинки с хвостами волос, на высоких каблуках с блокнотами на «молнии»; очкастые мотоциклисты с моторами, притороченными к задам их циклов, очковые хомбурги, бродящие, читая «Le Parisien» и дыша мятой, курчавоглавые мулаты с длинными сигаретами во ртах; старухи, несущие молочные бидоны и авоськи; кирные У. К. Филдзы, плюющие в канаву и руки в брюки идущие к своим лавкам проводить там еще один день; юная француженка, на вид китаянка, лет двенадцати со щелью