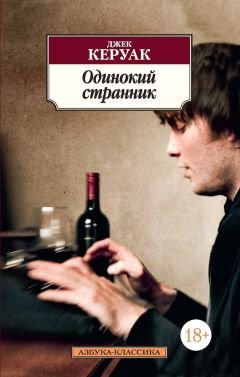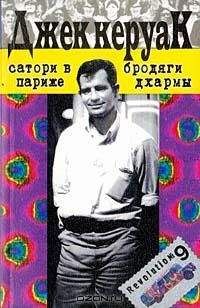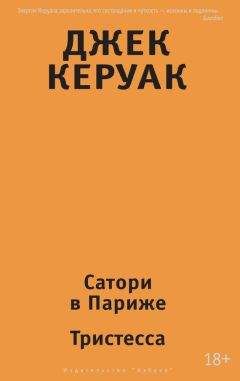сидел, испакощены одиноким танжерским временем — мимо протопал маленький лысостриженый мальчик, подошел к мужчине за столиком подле меня, сказал:
«Yo», и официант метнулся и шуганул его, крикнув:
«Yig». Со мной за столиком сидел жрец в буром оборванном одеянии (какой-то
hombre que rison), но смотрел в сторону, положив руки на колени, на зеленую сцену с ослепительно красной феской, красным девчачьим свитером и красной мальчиковой рубашкой… Грезя о Суфии…
О, стихи, что католик заполучит в исламской земле: «Святая Шерифская Мать моргает у черного моря… спасла ли ты финикийцев, тонущих три тыщи лет назад?.. О, нежная царица полночных коней… благослови Марокеновы грубые земли!»
Ибо они точняк были грубые земли, и я однажды выяснил, вскарабкавшись высоко в задние холмы. Сначала прошел по побережью, в песке, где чайки все вместе группой у моря словно бы закусывали за столом, сияющим столом — поначалу я думал, они молятся, — главная чайка возносила благодарственную молитву. Сидя в прибрежном песке, я задавался вопросом, знакомятся ли в нем микроскопические красные жучки, спариваются ли вообще. Попробовал сосчитать щепоть песка, зная, что там столько же миров, сколько песчинок во всех океанах. О, досточтимый из миров! Ибо как раз в тот миг мимо с посохом и бесформенной кожаной торбой, и хлопковым узелком, и корзиной на спине прошел старый Бодхисаттва в мантии, старый брадатый воплотитель величия мудрости в мантии. Я видел за много миль, как подходит он по пляжу — покрытый саваном араб у моря. Мы даже не кивнули друг другу — это было чересчур, слишком уж давно мы с ним знакомы.
После этого я вскарабкался вглубь суши и достиг горы, смотревшей на весь Танжерский залив, и вышел на тихий пастушеский склон, ах, рев ослов и ме-е-е овец там наверху, что радуются в Юдолях, и глупенькие счастливенькие трели свихптичек, дуркующих в уединении скал и кустарника, овеваемого солнечным жаром, навеваемым морским ветром, и все теплое завывание мерцает. Тихие хижины из кустов и веток, похожие на Верхний Непал. Лютые на вид арабские пастухи шли мимо, хмурясь мне, смуглые, бородатые, в мантиях, коленки голые. К югу лежали дальние африканские горы. Подо мной на крутом склоне, где я сидел, были зеленовато-голубые деревушки. Сверчки, рев моря. Мирные горные берберские деревни или хутора, женщины с вязанками веточек на спинах спускаются с холма — девчушки среди кормящихся быков. Сухие овраги в жирных зеленых луговинах. И карфагеняне все исчезли?
Когда я спустился обратно к пляжу перед Танжерским Белым Городом, уже была ночь, и я посмотрел на тот холм, где жил, весь в блестках, и подумал: «И я там живу, весь полный воображаемых умозрений?»
У арабов был их субботний вечерний парад с волынками, барабанами и трубами; меня он навел на мысль хайку:
Бродя по ночному пляжу
— Военная музыка
На бульваре.
Внезапно однажды ночью в Танжере, где, как я уже сказал, мне было скучновато, около трех часов утра задула одинокая флейта, и приглушенные барабаны забили где-то в глуби Медины. Я это услышал из моей мореобращенной комнаты в Испанском квартале, но, когда вышел на свою плиточную террасу, там ничего не было, кроме спящей испанской собаки. Звуки неслись из-за многих кварталов, к рынкам, под магометанскими звездами. То было начало Рамадана, поста длиною в месяц. Как печально: из-за того, что Мохаммед постился с рассвета до заката, целый мир из-за веры под этими звездами тоже так станет. На другом изгибе бухты подальше вращался маяк и отправлял свой луч мне на террасу (двадцать долларов в месяц), разворачивался и овевал берберские холмы, где дули в еще более причудливые флейты и барабаны постраньше и пониже, и дальше в рот Гесперид в мягчеющей тьме, что уводит к заре у побережья Африки. Мне вдруг стало жаль, что я уже купил себе билет на пароход в Марсель и уезжаю из Танжера.
Если когда вам придется плыть пакетботом из Танжера в Марсель, никогда не езжайте четвертым классом. Я-то себя считал эдаким умненьким, все повидавшим путешественником, и экономил пять долларов, но когда на следующее утро в 7 взошел на пакетбот (огромная синяя бесформенная глыба, что показалась мне такой романтичной, пыхтя вокруг танжерского мола из Касабланки дальше по побережью), мне тут же велели ожидать с бандой арабов, а потом, через полчаса, загнали стадом в носовой кубрик — казармы Французской армии. Все койки были заняты, поэтому пришлось сидеть на палубе и ждать еще час. После нескольких отрывочных блужданий среди стюардов мне сказали, что койку мне не выписали, и никаких распоряжений касаемо моей кормежки или как-то сделано не было. Я был практически «заяц». Наконец я увидел шконку, которой, похоже, никто не пользовался, и присвоил ее, сердито спросив солдата неподалеку: «Il y a quelqu’un ici?» Он даже не потрудился ответить, лишь пожал мне плечами, не обязательно галльское пожатие, а общее, усталое от мира, усталое от жизни пожатие Европы в целом. Я вдруг пожалел, что покидаю довольно равнодушную, однако честную искренность арабского мира.
Глупая эта лоханка отчалила через Гибралтарский пролив, и тут же начало яростно качать долгими донными волнами, вероятно, худшими на свете, что происходили от скалистого дна Испании. Уже настал почти полдень. После краткой медитации на койке, покрытой джутом, я вышел на палубу, где солдатам приказано было выстроиться с их пайковыми тарелками, и уже половина Французской армии на этой палубе потравила, поэтому по ней невозможно было ходить не поскользнувшись. Меж тем я заметил, что даже пассажирам третьего класса накрыли обед у них в столовой, и у них были свои каюты и обслуживание. Я вернулся к своей шконке и вытащил старые причиндалы походного мешка, алюминиевый котелок и кружку, и ложку из рюкзака, и стал ждать. Арабы по-прежнему сидели на полу. Здоровенный жирный немец, старший стюард, похожий на прусского телохранителя, вошел и объявил французским войскам, только что с несения боевой службы на жарких границах Алжира, что надо встать по стойке «смирно» и заняться уборкой. Они молча воззрились на него, и он ушел со своей свитой крысят-стюардов.
В полдень все зашевелились и даже запели. Я видел, как солдаты с трудом пробираются вперед со своими котелками и ложками, и пошел за ними, затем с цепью двинулся в наступление на грязный камбузный котел доверху простой вареной фасоли, которую плюхнули мне в котелок после уничижительного взгляда поваренка, не понявшего, почему мой котелок немного не похож на прочие. Но чтоб