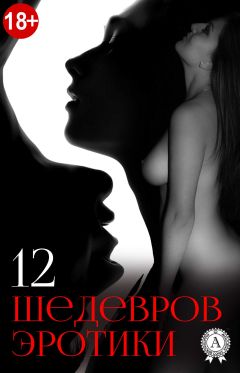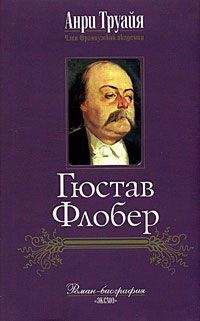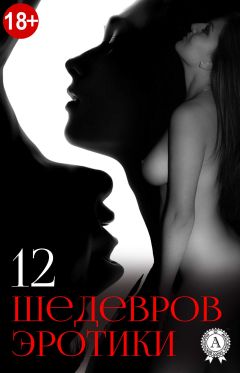Несколько раз она отмахивалась от укоризненных жестов мадам Бардино.
– Сейчас приду.
Но минуты летели, а они все еще разговаривали.
– Прощай, изменница, – крикнула ей Понетта, уходя.
Она очень скучала с сонным Рансомом и обозлившимся Пломбино. Когда Моника их бросила, они снова заговорили о своих нескончаемых делах… Понетта находила, что у Моники положительно не все дома! С такой дурой ничего не выйдет! Пренебрегать миллионами, когда можно их взять, не давая ничего взамен! Предпочесть барону этого рыжего невежу!
Все трое с достоинством прошли мимо их стола. Умолкший Буассело проводил их глазами. Как всегда сгорбленный, точно под тяжестью своего прошлого, последним вышел Пломбино. Моника весело крикнула им вслед:
– Счастливого пути!
Буассело ее передразнил:
– Однако же этот толстяк… гиппопотам, как вы его называете… Он, кажется, очень уязвлен.
– Бедный!..
Она в нескольких словах рассказала ему о несчастной страсти Пломбино, рассказала, почему он сделался одним из самых крупных благотворителей Нансеновского комитета.
– Барон филантроп, – сказала она иронически. – Вы над ним не издевайтесь…
– Барон? – воскликнул Буассело с деланным изумлением. – Барон? Что это за птица?
Она рассмеялась. Ей, как и ему, казались нелепыми эти титулы псевдодворянства, льстящие только самому пустому тщеславию. Ловушка для дураков – добыча спекулянтов на человеческой глупости!
– И подумать, – сказал Буассело, – что однажды пробушевала ночь четвертого августа! Революция, где ты?
Кафе опустело. Лакеи составляли стулья.
– Час! – сказала Моника. – Уже поздно!
– Правда, – удивился Буассело, – как пролетело время!..
На углу Оперы он стал поспешно прощаться. Моника хотела уже сесть в такси, но вдруг он спросил:
– Вы где живете? В какой части города?
– На улице Боэти, разве вы не знаете?
Он пробурчал:
– Для вас ведь вовсе не обязательно жить возле магазина!
Она почему-то улыбнулась, вспомнив о своей холостяцкой квартире на Монмартре, и сказала:
– Да, но я живу на антресолях над магазином. И надеюсь, что вы доставите мне на днях удовольствие и придете с нашим другом Виньябо завтракать.
Буассело был польщен. Небанальна и проста, несмотря на известность. Да, с ней приятно встретиться еще!.. Он дружески пожал ей руку.
– Значит, решено? Да, а ваш адрес?
– 27, улица Вожирар.
– До свидания! Я вам черкну…
Автомобиль тронулся. Она наклонилась и проводила глазами медленно удаляющуюся, приземистую фигуру.
Славный он, этот Буассело…
После вечера в «Наполитене» они виделись еще раза три или четыре, но этого было достаточно… Смутный проблеск желания разгорелся пылающим пожаром.
Во-первых, завтрак вместе с Виньябо в очаровательной квартирке на антресолях на улице Боэти…
В глазах Буассело Моника, в скромной и элегантной обстановке, каждая мелочь которой подчеркивала ее индивидуальный вкус, предстала в новом свете. Современная фея – в созданном ее фантазией дворце…
Она влекла его не только своей элегантностью и плотской соблазнительностью, к которым суровый писатель все же имел тяготение, как ни старался это скрывать.
Он вышел из простой среды, но, несмотря на кажущееся пренебрежение к внешности, в нем оставались от трудного начала его карьеры – от дней, проведенных среди богемы Монмартра и в ателье Монпарнаса, – далеко не удовлетворенные аппетиты.
Моника импонировала ему окружающей ее роскошью и не изведанной еще им утонченностью. Пленял также ее тонкий ум и культура, проявляющиеся даже в случайных разговорах.
Хотя Режи Буассело и находил, что женщина должна быть только красивой самкой, индивидуальность Моники влекла его как очаровательное достоинство. Ее профессия, такая далекая от его собственной, ее успехи – все это ставило их на равную ногу и способствовало сближению.
Как декораторша – она интересовала, будь писательницей – только раздражала бы.
Уважая в ней равную и притом в той области, где развитие их талантов не мешало друг другу, Буассело скоро превратился в ежедневного гостя – друга Режи. Она открыла ему всю душу. Он скоро узнал о ней все – и жалость перешла в нежность.
Они не выходили вместе уже целую неделю, и однажды вечером были приглашены обедать к художнику Риньяку, на авеню Фроше. По обыкновению Буассело пешком провожал Монику домой. В тот вечер неизбежное свершилось.
Ему не пришлось объясняться ей в любви. Его молчание и внезапное смущение говорили красноречивее слов. Монику, захваченную таким же внезапным влечением, невольно притягивала эта новая душа под суровой маской и нежное сердце. Она ласково звала его «мой медведь» и говорила себе: «это ребенок», но с удовольствием представляла его могучую мускулатуру.
В тот вечер, проходя по улице Пигаль мимо закрытых ставен своей холостяцкой квартиры, Моника замедлила шаг.
Он знал, что у нее было в этой части города помещение, где она предавалась своему пороку: курению. В глазах Буассело это являлось ее единственным ужасающим недостатком. Остальное – ее образ жизни – его не интересовало. И даже в надежде кое-чем поживиться, он его одобрял.
Заметив ее взгляд, брошенный на окна, он сразу догадался и со смешком сказал:
– Ага! Это здесь?
Ему одновременно хотелось и остановиться, и бежать без оглядки. Опиум и все его последствия – искусственное возбуждение, холодный разврат, эти жалкие наслаждения в сравнении со здоровой красотой естественных ласк – были ему противны. Но представилась Моника, раздетая, доступная…
Он колебался. Ноги точно налились свинцом. Они молча переглянулись, и вдруг без единого слова он, как собачонка, пошел за ней следом.
Войдя в комнату, слабо освещенную затянутой люстрой, и вдыхая тяжелый запах оставшегося дыма, Буассело, злясь на самого себя, почувствовал смутное, но непреодолимое желание…
– Катафалк! – проворчал он, показывая на черные с позолотой обои, на диван, покрытый точно погребальным покровом, и на поднос с принадлежностями для курения.
– Одну маленькую трубочку! Только одну!..
Но он отказался и от трубки, и от предложенного кимоно. Моника спокойно переоделась за высокими лаковыми ширмами.
Он все же потрогал легкий халат.
Сколько мужчин и женщин им пользовались…
Эта мысль не то вызывала отвращение, не то возбуждала. Нет! Скорее отвращение!.. Он злобно ждал Монику. Она показалась из-за ширм в халате цвета спелой сливы, расшитом белыми ибисами, клюющими розы. Но под мягкой материей он ясно различал каждое движение ее гибкого тела и, раздраженный, молча наблюдал за ее размеренными, сосредоточенными движениями. Он ненавидел в эту минуту Монику за ее отчужденный вид, за бесчувственное выражение китайского идола на лице, с которым она вдыхала дым первой трубки. Она вдруг запрокинулась в таком странном экстазе, что ему почудилось в этих опьяненных глазах виденья всех ее былых наслаждений. В нем поднялась глухая ненависть. Он грубо вырвал у нее иглу, швырнул ее на поднос и сшиб его со столика тяжелым кулаком. Покатились трубки, лампочка погасла. Моника только успела прошептать:
– Что вы делаете…
Он кинулся к ней с ругательствами:
– Сумасшедшая! И вам не стыдно! Вы, верно, приняли меня за одного из ваших кобелей…
Но равнодушная к оскорблениям и почти счастливая таким проявлением ревности и желания, Моника зажала ему рот рукой. Он удивленно замолчал, целуя ее душистые пальцы. Она обняла его, притягивая к себе другой рукой. Под полураскрывшимся халатом взволнованно поднималась белая грудь, и Буассело, как зверь, потерял над собой власть… Головокружительные мгновенья… не отрывая губ, они слились сплетенными телами.
Это было глубокое чувственное потрясение. Страсть вырвалась наружу неожиданно для них обоих, и в особенности для Моники.
Она не стала ждать на другой день от Режи планов на будущее и решила сама:
– Что если нам нанять дом Риньяка в Розейе, на берегу Уазы? Мы бы провели там недельки две… Клэр отлично справится в это время и без меня, а ты спокойно будешь работать над своей новой книгой…
– Прекрасно!
И тотчас же все было решено. Моника увезла «своего медведя» после долгих секретных переговоров с Клэр.
– Главное, чтобы он сейчас не догадался!..
«Ее медведь»!.. Со вчерашнего дня она произносила это слово с благодарностью и чувством власти над ним, и сама казалась себе новой Моникой. Неожиданность происшедшего одним могучим ударом вывела ее из мрачного оцепенения и пробудила новые силы жизни.
Она, равнодушная ко всем, любила… Она любила человека нормального, достойного, гордого. Она любила его физически и духовно, и снова стояла на твердой почве. Любовь – единственное творящее начало жизни…
Две недели в Розейе пролетели как сплошной сказочный сон.
Маленький чистенький домик, затерянный в полях, деревенский садик, уютно скрытый густой живой изгородью.