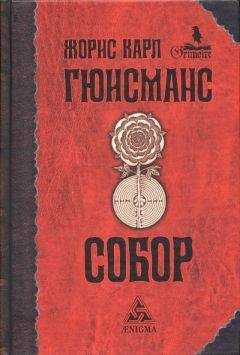— Между послушниками мне особенно любопытны двое: высокий белокурый юноша с заостренной бородой и весь сгорбленный, глубокий старец.
— Юноша — брат Анаклет. Он — истинная скала молитв, один из драгоценнейших новичков, которыми одарили небеса наше аббатство. Престарелый Симеон — дитя траппистов, питомец одного из сиротских домов ордена. Душа его необычна, он истинный святой, который еще при жизни слился с Богом. Мы побеседуем о нем подробнее в другой раз, а теперь пора идти. Близится час секст.
Примите четки, которые я решаюсь вам предложить. Позвольте мне привесить медаль святого Бенедикта. — И он вручил Дюрталю небольшие деревянные четки с причудливым медальоном, на котором были выгравированы кабалистические письмена — талисман святого Бенедикта.
— Известно вам значение этих знаков?
— Да, я читал о них в брошюре дома Геранже.
— Отлично. Кстати, когда вы причащаетесь?
— Завтра.
— Завтра? Не может быть!
— Почему?
— Завтра будет одна только обедня — в пять часов и, по обычаю, во время нее не предлагают Святых Тайн одному. Отец Бенедикт, который всегда служит раннюю обедню, уехал сегодня утром и вернется не ранее двух дней. Очевидно, вы заблуждаетесь.
— Да, но приор ясно объявил мне, что я причащусь завтра! — воскликнул Дюрталь. — Скажите, все отцы здесь одновременно и священники?
— Нет. Священническим саном облечены отец игумен, который сейчас болеет, приор, который совершит завтра в пять часов священнодействие, отец Бенедикт, о котором я вам говорил, и еще один, которого вы не видели, так как он сейчас в отъезде.
— Но, знаете, если это возможно, то я также вкусил бы завтра Святых Даров. Но если не все они посвящены, чем же разнятся простые послушники от отцов, не возведенных в священство?
— Образованием. Отцы — люди с некоторой ученостью, знающие латынь, не то, что братья послушники — в миру крестьяне и рабочие. Но я, во всяком случае, повидаю приора и после богослужения сообщу вам ответ касательно причастия. Но как досадно! Жаль, что вы не могли сегодня утром соединиться с нами.
Дюрталь ответил жестом сожаления. Отправившись в церковь, скорбел о помехе, молил Господа не откладывать приобщения его к благодати.
После секст подошел посвященный.
— Оказалось, дело обстоит так, как я думал, но вы тем не менее будете допущены к евхаристии. Отец приор условился с викарием, который обедает с нами, и он завтра утром перед отъездом отслужит обедню и причастит вас.
— О! — вздрогнул Дюрталь. Весть эта раздирала ему сердце. Приехать в пустынь и принять Святые Дары из рук проезжего священника-весельчака! — О, нет! Я исповедался у монаха и хочу причаститься у монаха. Лучше подождать возвращения отца Бенедикта. Но как быть? Не могу же я объяснить приору, что мне не нравится этот неизвестный рясоносец, и что для меня истинная мука достигнуть в монастыре после стольких усилий такого примирения!
И он сетовал пред Господом, что этой случайностью испорчено для него все счастье очищения и просветления.
Понурив голову, вошел в трапезную.
Викарий был уже там. Заметив печальное лицо Дюрталя, участливо старался развеселить его, но своими шутками достигал обратного. Дюрталь из вежливости улыбался, но с таким натянутым видом, что наблюдавший за ним Брюно переменил разговор и отвлек священника.
Дюрталь спешил скорее кончить обед. Съел яйцо и нехотя поглощал картофельное пюре в горячем масле, видом своим удивительно походившее на вазелин. Но разве что значила теперь для него пища!
Он думал: «Как ужасно, если первое причастие оставит после себя досадное воспоминание, мучительное впечатление! И насколько я знаю себя, оно будет тревожить меня вечно. Я прекрасно понимаю, что с богословской точки зрения неважно, кто совершит таинство — священник или траппист. И тот и другой — только посредники между мною и Господом; но, однако, я отчетливо чувствую, что это не одно и то же. Хоть раз не сомневаться, непоколебимо верить в святость, а кто поручится мне за этого священника, который расточает шутки, как трактирщик? — И он вспомнил, что именно из опасения подобных страхов послал его аббат Жеврезе в траппистский монастырь. — Как все неудачно!»
Не слушал даже беседы, которую вели рядом викарий с посвященным.
Совершенно одинокий, сокрушался он, склонившись над своей тарелкой.
— Меня не тянет завтра причащаться, — подумал он и возмутился: — Сперва трусость, потом тупоумие. Разве не снизойдет в него наперекор всему Спаситель?
Охваченный глухим страхом, вышел из-за стола. Бродил по парку, блуждая по аллеям.
В нем начала укореняться мысль, что Небо ему ниспосылает испытание. «Мне не достает смирения. Очевидно, радость иноческого освящения отнята у меня в наказание. Христос простил меня. И это уже много. Разве я вправе надеяться на большее, чтоб Он еще считался с моими измышлениями, склонился к моим мольбам?»
На несколько минут эта мысль его умиротворила. Он сетовал на свою необузданность, обвинял себя в несправедливом отношении к священнику, который в довершение всего, быть может, даже и святой.
— Ах! — оставим это, решил он. — Буду считать вопрос решенным и вооружусь по мере сил смирением. Пока меня ждут четки, — и, сев на траву, начал повторять молитвы.
Не успел добраться до второго зерна, как снова овладела им досада. Продолжал повторять «Отче наш» и «Ave», утратив смысл молитв и невольно вновь думал: «Вот неудача! надо же было уехать монаху, который служит каждый день обедню, чтобы постигло завтра меня такое разочарование!»
Смолк в перерыве минутного затишья, потом вдруг в нем закипела новая тревога.
Он отсчитал уже свои десять зерен и рассматривал четки, как вдруг у него мелькнула мысль: «Приор предписал мне прочитывать десяток ежедневно, но чего десять? зерен или четок?
Зерен. — И сейчас же поправился: — Нет — четок».
На него напала нерешимость.
«Что за бессмыслица! Приор не мог предписать десять четок в день. Это равносильно пятистам молитвам без перерыва. Этого никому не выполнить, не рассеявшись. Вне всякого сомнения, он подразумевал десять зерен. Ясно!
Но нет! Вполне допустимо, что духовник, налагая эпитемию, соразмеряет ее с тяжестью грехов, которые она возмещает. Затем, мне не по сердцу эти капли благочестия, запаянные в шарики, и естественно, что он назначил мне четки в усиленном объеме!
Да!.. И однако… Не может быть! В Париже у меня прямо физически не хватит времени на бормотанье. Нет, вздор!»
Но снова жалила его мысль, что он ошибся.
«Сомненья неуместны. „Десяток“ означает на церковном языке „десять зерен“. Конечно… Но я отлично помню, что, произнеся слово „четки“, отец выразился: „читайте десяток“, подразумевая „десяток четок“, иначе он сказал бы — „десяток зерен“. — Но сейчас же заспорил: — Отец мог и не ставить точки над i, он пользовался словом распространенным, общеизвестным. Смешная распря о его значении!»
Тщетно призывал разум, пытаясь одолеть сомненья. И вдруг наткнулся на довод, который, смутил его окончательно.
— Он, вероятно, вообразил, что я из трусости лени, страсти противоречить, стремления к непокорству не хочу разматывать десяти указанных катушек. Из двух толковании я выбрал избавляющее меня от всяких усилий, всякого труда.
Да, бесспорно, слишком легкое решение! Само по себе это доказывает, что я обольщаюсь, пытаюсь втолковать себе, что приор предписал мне перебрать десять зерен!
Притом же одно «Отче наш», десять «Ave» и одно «Ciloria» — ничто. Разве допустимо столь незначительное покаяние!
И невольно ответил:
— Тебе и этого много! Даже десятка не смог ты сказать, не отвлекаясь.
Не подвинувшись ни на шаг, вертелся он в заколдованном круге.
— Никогда не был я таким растерянным, думал, — стараясь сосредоточиться Дюрталь. — Я не безумец и, однако, восстаю на здравый смысл. Нет никакого сомнения, ясно, как Божий день, что мне следует повторить десять «Ave» и ни единой больше.
Он изумлялся, почти страшился этих еще неизведанных переживаний.
Чтобы освободиться, достигнуть душевного покоя, придумал новое решение, слабо примирявшее оба ответа — решение наспех, которое могло дать хотя временное удовлетворение.
— Во всяком случае, я не могу завтра причащаться, если сегодня не исполню предписанного покаяния. Раз возникло сомнение, то благоразумнее согласиться на десять четок. Потом увидим. Если нужно, я посоветуюсь с приором.
Да, но он сочтет меня тупицей, если заговорить с ним о четках! Значит, спрашивать нельзя! Но о чем же тогда думать! Сам ты видишь, сам признаешь, что от тебя требуется всего десять зерен!
В отчаянии, стремясь утишить внутренний разор, набросился Дюрталь на четки. Но как ни закрывал глаз, как ни напрягал внимания, ни пытался овладеть собой, оказалось, что через два десятка зерен он совершенно сбился с толку. Путался, забывал нанизывать «Отче наш», мешался в зернах «Ave», топтался на месте.