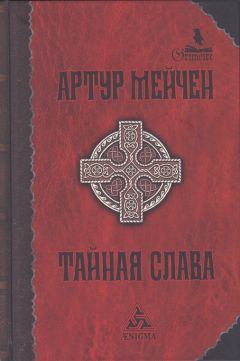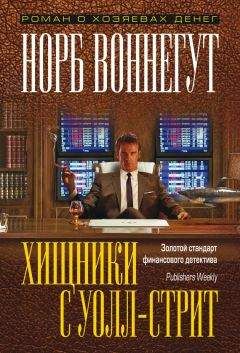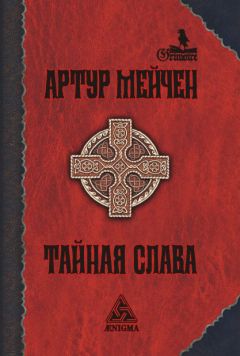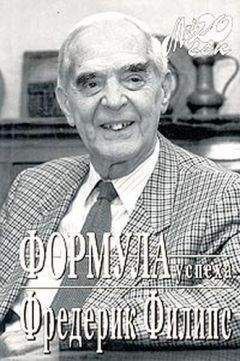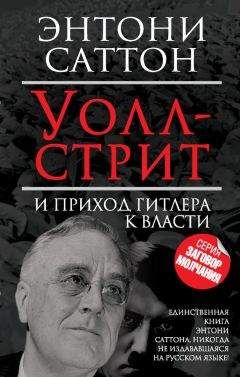А затем, зимой 1915–1916 годов. Ужас прекратился так же неожиданно, как и начался. Овцы снова сделались робкими клубками шерсти, инстинктивно убегающими прочь даже от малого ребенка, а быки и коровы обратились в медлительных, туповатых и абсолютно безвредных созданий. Сердца животных покинул мятежный дух, побуждавший их к злонамеренным замыслам. На них снова были наложены оковы, спавшие лишь на очень короткое время.
Вот тут-то и наступает время задать неизбежный и каверзный вопрос: "Почему?". Почему животные, издревле покорно и терпеливо подчинявшиеся человеку и пугавшиеся одного его присутствия, вдруг осознали свою мощь и объединились в беспощадной войне против своего извечного властелина?
Конечно же, это самый трудный вопрос настоящей книги. Приводя на ее страницах мое собственное объяснение, я одновременно хочу информировать читателя о том, что не очень уверен в его истинности и всегда готов принять любые поправки, могущие пролить более яркий свет на недавние события.
Некоторые мои друзья, мнением которых я очень дорожу, склоняются к версии о заражении животных микробом ненависти. Они утверждают, что крайнее ожесточение и безумная, самоубийственная страсть к убийству, которые во время последней войны охватили весь мир, заразили собой и наших меньших братьев, породив в них взамен прирожденного инстинкта подчинения ярость, гнев и неуемную кровожадность.
Что ж, можно принять и такое объяснение. Не буду оспаривать его, дабы меня не заподозрили в претензиях на понимании хода вещей во Вселенной. Скажу лишь, что эта теория поражает меня своей фантастичностью. Конечно, можно допустить существование такого явления, как эпидемия ненависти, — существуют же, в конце концов, эпидемии оспы и чумы. И все-таки я вряд ли когда-либо смогу поверить в это.
По моему частному мнению, которое я ни в коем случае не хочу никому навязывать, причина великого бунта имеет под собой более сложное основание. Я полагаю, что подданные восстали потому, что их король сам отрекся от престола. Человек доминировал над животными многие века, потому что его духовное начало царило над рациональным ввиду особого достоинства и благодати, которыми обладает человек и которые делают его тем, что он есть. Думаю, не стоит объяснять того, что между человеком и животными существовал некий договор и соглашение. С одной стороны — господство, с другой — подчинение. Но в то же самое время между обеими сторонами существовала и та особая сердечность, которая наблюдается между господами и их подданными в хорошо организованном государстве. Я знаю одного социалиста, который всерьез утверждает, что в "Кентерберийских рассказах" Чосера[61] изображена картина подлинной демократии. Не знаю, как насчет демократии, но рыцарь с мельником могли уживаться в полном мире и согласии именно потому, что рыцарь знал: он рыцарь, а мельник знал: он мельник. Если бы рыцарь добровольно отказался от своего рыцарского звания, а мельник в это же самое время вдруг решил сделаться рыцарем, то я уверен, что их отношения немедленно стали бы затруднительными, враждебными и, скорее всего, убийственными.
Так обстоит дело с людьми. Я верю в силу и правду традиции. Пару недель тому назад один весьма ученый человек сказал мне: "Когда мне приходится выбирать между свидетельствами традиции и документами, я всегда выбираю традицию. Документы очень часто бывают сфальсифицированными, традицию же подделать нельзя". И это совершенно справедливо. Именно потому я и верю всем тем древним преданиям, в которых утверждается, что некогда человек и животные заключили между собой некое равноправное дружеское соглашение. Наша сказка о Дике Уиттингтоне и его коте, без сомнения, является адаптацией древней легенды к сравнительно новому персонажу. Но если мы проследуем еще дальше в глубь веков, то нам встретится немало народных традиций, свидетельствующих о том, что животные состояли не только в подчинении человеку, но и в дружбе с ним.
Все это было возможно благодаря той единственной духовной составляющей человека, которой не обладают разумные животные. Духовное не значит "уважаемое", оно даже не значит "высокоморальное" и "доброе" в обычном смысле этого слова. Оно обозначает монаршую прерогативу человека, отличающую его от животных.
На протяжении многих веков человек постепенно стягивал с себя царскую мантию и стирал со своей груди священный бальзам миропомазания. При этом он не уставал заявлять, что он вовсе не духовное, а просто-напросто разумное существо — то есть во всем равное животным, над коими некогда был поставлен владыкой. Он во всеуслышание провозгласил, что является не Орфеем[62], а Калибаном[63].
Но у животных тоже есть кое-что, чего недостает человеку. Мы называем это инстинктом. И вот в одно прекрасное мгновение животные инстинктивно почувствовали, что трон пустует и что договор между ними и самонизложенным монархом расторгнут. А если человек перестал быть царем, значит, он сделался обманщиком, проходимцем, самозванцем — то есть подлежащим уничтожению существом.
Отсюда, я полагаю, и происходит Ужас. Они восстали однажды — они могут восстать вновь.
Пролог
The Three Impostors
Роман впервые опубликован в 1895 г. Перевод осуществлен по изданию: Machen A. The Three Impostors. L., 1964.
Cтало быть, мистер Джозеф Уолтерс тут и заночует? — поинтересовался щеголеватый, гладко выбритый господин у своего спутника, человека не самой приятной наружности, рыжие усы которого переходили в короткие бакенбарды.
Оба джентльмена стояли у входной двери, довольно посмеиваясь. Вскоре к ним присоединилась, сбежав вниз по лестнице, молоденькая девушка с приятным лицом, привлекавшим скорее своей необычностью, чем красотой, и с блестящими карими глазами. В руках она держала аккуратный бумажный сверточек.
— Не запирай дверь! — сказал, выходя, щеголеватый господин своему приятелю. — Вдруг мистеру Уолтерсу будет скучно одному?
— Думаешь, это благоразумно, Дейвис? — с сомнением спросил рыжеусый, поглаживая рукой полуразбитый дверной молоток. — Не уверен, что нашему дорогому доктору Липсьюсу это понравится. А ты что скажешь, Элен?
— Я согласна с Дейвисом. Он настоящий художник, а ты, Ричмонд, банален до мозга костей, да к тому же еще и трусоват. Конечно, дверь нужно оставить открытой. Какая жалость, что Липеьюсу пришлось уехать! Вот бы душу отвел!
— Да уж, — поддержал ее гладко выбритый мистер Дейвис, — не повезло доктору с этим вызовом на Запад. Боюсь, там ему придется туго.
Они вышли наружу, оставив покоробившуюся, растрескавшуюся от стужи и сырости дверь приотворенной, и с минуту постояли на ветхом крыльце.
— Ну что же! — произнесла девушка. — Наконец-то мы сделали свое дело. Не придется нам больше носиться по следу молодого человека в очках.
— И этим мы во многом обязаны тебе. — вежливо заметил Дейвис. — Я не шучу — так сказал перед отъездом доктор. Но, мне кажется, каждый из нас должен с кем-то попрощаться. Итак, посреди этой живописной, но пришедшей в упадок усадьбы я хочу проститься с моим другом мистером Бартоном, агентом по продаже антиквариата и драгоценностей. — Дейвис приподнял шляпу и отвесил своей тени шутовской поклон.
— А я, — произнес Ричмонд, — говорю "до свидания" мистеру Уилкинсу, личному секретарю и делопроизводителю, чье общество, признаюсь, мне изрядно надоело.
— Прощайте, мисс Лелли и мисс Лестер! — в изящном реверансе добавила девушка. — А вместе с ними прощайте и все оккультные происшествия! Представление окончено!
Мистер Дейвис и девушка, казалось, от души потешались, но Ричмонд нервно теребил бакенбарды.
— Не по себе мне что-то, — сказал он. — В Штатах мне доводилось видеть вещи и пострашнее, но тот последний вопль — мне чуть плохо не стало.
Трое друзей спустились с крыльца и принялись медленно прогуливаться по садовой дорожке, некогда покрытой гравием, а ныне поросшей мягким мокрым мхом. Был чудесный осенний вечер, бледные солнечные лучи падали на желтые стены заброшенного долга, высвечивая следы упадка: черные дождевые потеки на месте отвалившихся водостоков, щербатые оскалы оголенных кирпичей, плакучую зелень чахлого ракитника близ крыльца и грязные разводы на каменной кладке, образовавшиеся в тех местах, где глина наползла на покосившийся фундамент.
Это был странный, бестолково спланированный дом, заложенный лет двести назад, — слуховые оконца косо глазели из-под козырьков черепицы, боковые крылья в георгианском стиле неровно расходились в стороны, стрельчатые окна едва доходили до второго этажа, а два покатых купола, некогда сиявшие праздничной ярко-зеленой краской, ныне безнадежно и безобразно облупились. Разбитые урны валялись по обе стороны дорожки, тяжелые испарения поднимались над жирной глиной, одичалый кустарник, весь спутавшийся и бесформенный, источал сырость — вся атмосфера усадьбы наводила на мысль о разверстой могиле. Трое приятелей угрюмо взирали на заполонивший лужайку и клумбы бурьян и на заросший водоем. Там, над зеленой ряской, гордо высился трубивший в разбитый рог погребальную песнь Тритон, а вдали, за садовой оградой и окаймлявшей ее ширью лугов, садилось солнце, и сквозь ветки вязов пробивался его багровый свет.