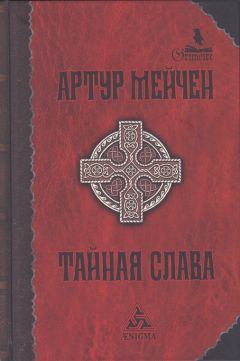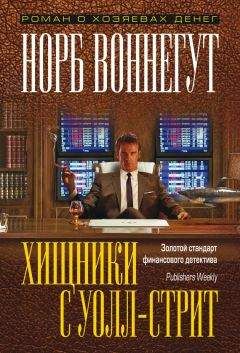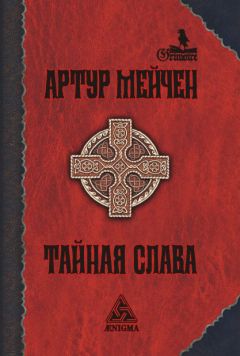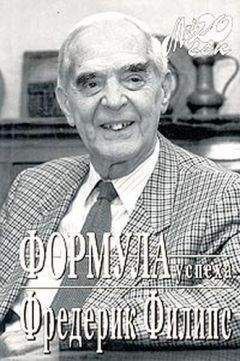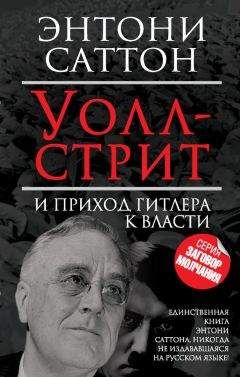Это был странный, бестолково спланированный дом, заложенный лет двести назад, — слуховые оконца косо глазели из-под козырьков черепицы, боковые крылья в георгианском стиле неровно расходились в стороны, стрельчатые окна едва доходили до второго этажа, а два покатых купола, некогда сиявшие праздничной ярко-зеленой краской, ныне безнадежно и безобразно облупились. Разбитые урны валялись по обе стороны дорожки, тяжелые испарения поднимались над жирной глиной, одичалый кустарник, весь спутавшийся и бесформенный, источал сырость — вся атмосфера усадьбы наводила на мысль о разверстой могиле. Трое приятелей угрюмо взирали на заполонивший лужайку и клумбы бурьян и на заросший водоем. Там, над зеленой ряской, гордо высился трубивший в разбитый рог погребальную песнь Тритон, а вдали, за садовой оградой и окаймлявшей ее ширью лугов, садилось солнце, и сквозь ветки вязов пробивался его багровый свет.
Ричмонд вздрогнул и топнул ногой.
— Надо уходить, — сказал он. — Здесь нам больше нечего делать.
— И впрямь, — согласился Дейвис. — Наконец-то мы с этим покончили. Я уж думал, мы никогда не избавимся от джентльмена в очках. Умный был парень, но, боже мой, как под конец сломался! Весь позеленел, едва я лишь тронул его за плечо в баре. Но куда он все-таки запрятал эту штуку? Готов поклясться, что при нем ее не было.
Девушка рассмеялась, и все трое двинулись дальше. Внезапно Ричмонд остановился.
— Ой! — воскликнул он, обращаясь к девушке. — Что это там у тебя? Смотри-ка, Дейвис, похоже, кровь…
Девушка приоткрыла свой сверточек.
— Вот, глядите! Это я сама придумала. Согласитесь — славное пополнение для музея доктора. Это палец с правой руки, что посмела украсть "Золотого Тиберия".
Мистер Дейвис закивал с явным одобрением, а Ричмонд приподнял свой уродливый котелок с высокой тульей и отер лоб замусоленным носовым платком.
— Я пошел, — сказал он, — а вы, если хотите, можете оставаться.
Трое приятелей обогнули конюшни, миновали пустошь, некогда бывшую огородом, и, явно желая срезать путь, юркнули в живую изгородь на задворках. Пятью минутами позже на темной подъездной аллее усадьбы показались два неторопливо прогуливавшихся джентльмена, которых в эти заброшенные предместья Лондона завела беспечная праздность. Они приметили усадьбу с главной дороги и, по достоинству оценив масштабы ее запустения, принялись обмениваться высокопарными замечаниями в духе Джереми Тейлора[64].
— Посмотрите, Дайсон! — сказал один из джентльменов, когда они подошли поближе. — Взгляните на верхние окна! Садится солнце, и — несмотря на пыльные стекла — "муть эркера горит".
— Филиппс! — ответил второй (он был постарше, и, надо заметить, во всем его виде сквозила высокомерность). — Я снова во власти фантазии. Меня влекут сумрак и гротеск. Здесь, где повсюду торжествует мерзость запустенья, где нас окутывает кедровый полумрак, где вместе с воздухом небесным наши легкие вдыхают могильную отраву, разве можно оставаться в плену обыденного? Я вижу зарево в окнах, и мне кажется, что дом зачарован, а внутри, я говорю вам, внутри, в комнате, нас ждут кровь и огонь…
Приключение с "Золотым Тиберием"
Знакомство мистера Дайсона с мистером Чарлзом Фи-липпсом было делом случая — из числа тех, что всякий день не единожды выпадают обитателям лондонских улиц. Мистер Дайсон был прирожденным литератором, но при этом являл собой прекрасный пример загубленного дарования. При всех своих выдающихся задатках, кои могли бы еще в юные годы обеспечить ему место в ряду любимейших писателей Бентли[65], он добился очень немногого. Азы схоластической логики ему, бесспорно, были известны, но о жизненной логике мистер Дайсон не имел ни малейшего понятия. Он самодовольно считал себя художником, будучи на самом деле лишь праздным созерцателем чужих стараний.
Одно из многочисленных своих заблуждений — представление о себе как о великом труженике — он лелеял с особой любовью. С видом предельно утомленного человека он входил в свое любимое пристанище, маленькую табачную лавку на Грейт-Куин-стрит, и принимался рассказывать любому, кто удосуживался его выслушать, о том, как он два дня кряду производил наблюдения за восходом и заходом солнца. Владелец лавки, будучи человеком исключительной любезности, терпел Дайсона отчасти по доброте душевной, а отчасти потому, что тот был его постоянным клиентом. Обычно Дайсон усаживался на пустой бочонок и излагал свои соображения о литературе (в частности) и о творчестве (вообще) до тех пор, пока лавка не закрывалась, и если новых покупателей его красноречие и не привлекло, то никого оно, но крайней мере, не отпугнуло.
Следуя другой своей слабости, Дайсон предавался жестоким экспериментам с табаком, без устали пробуя все новые и новые сочетания сортов. Так вот, однажды вечером, не успел сей доморощенный литератор войти в лавку и огласить только что изобретенный рецепт табачного зелья, как появившийся следом за ним молодой денди приблизительно его лет вежливо улыбнулся Дайсону и попросил у табачника в точности такой же набор. Дайсон был глубоко польщен, и через несколько минут у них с новым посетителем завязался любезный разговор, а спустя час владелец лавки уже наблюдал, как новоиспеченные друзья сидят рядышком на пустой бочке и увлеченно предаются глубокомысленной беседе.
— Дорогой сэр! — говорил Дайсон. — Я позволю себе обозначить цель настоящего писателя всего лишь одной фразой. Придумать чудесную историю и чудесно рассказать ее — вот и все, что он должен сделать.
— Я признаю вашу правоту, — отвечал мистер Филиппс, — но позвольте и мне обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в руках истинного художника всякая история замечательна и всякое обстоятельство неповторимо и чудесно. Содержание само по себе мало что значит — все зависит от того, как его подать. Высочайшее мастерство в том и заключается, чтобы взять заведомо заурядный материал и при помощи высокой алхимии слова превратить его в чистое золото искусства.
— Но это будет только мастерство! Причем мастерство, использованное глупо пли, по крайней мере, необдуманно. Представьте себе великого скрипача, вознамерившегося показать, какие удивительные звуки он может извлечь из игрушечного детского банджо!
— Нет-нет, вы не правы. Я вижу, у вас совершенно превратное представление о жизни. Надо бы нам как-нибудь собраться и основательно потолковать об этом. Знаете что, пойдемте ко мне! Я живу совсем рядом.
Так мистер Дайсон стал приятелем мистера Чарлза Филиппса, проживавшего на тихой площади неподалеку от Холборна. С тех пор они стали более или менее регулярно наведываться друг к другу и назначать встречи в лавке на Куин-стрит, где своими беседами отравляли хозяину радость материальной выгоды: он предпочел бы, чтобы они сидели и курили молча.
Между приятелями шел постоянный спор о литературе: Дайсон отстаивал права чистого воображения, а Филиппс, который изучал естественные дисциплины и в глубине души считал себя этнологом, настаивал на том, что всякая литература должна иметь научное обоснование. Проявив перед смертью неразумную щедрость, родственники обоих молодых людей оставили им достаточно денег, дабы те могли посвятить жизнь размышлениям о высоких материях и не заботиться о таких мелочах, как хлеб насущный.
Однажды июньским вечером мистер Филиппс сидел в своей тихой комнате на площади Ред-Лайон. Он распахнул окно и, с удовольствием покуривая трубку, наблюдал за мельтешением жизни на улице. Было ясно, и отсвет заката долго раскрашивал вечернее небо. Розоватые сумерки летнего вечера соперничали с газовыми фонарями на площади, создавая причудливую игру света и тени, в которой таилось нечто неземное: сновавшие по тротуару дети, беспечные гуляки у дверей бара и просто случайные прохожие казались скорее бликами света, нежели существами из плоти и крови. Постепенно в домах напротив одни за другим вспыхивали окна, кое-где на слепящем фоне появлялся и тут же исчезал темный силуэт. Подходящим фоном для всей этой полутеатральиой декорации была итальянская оперная музыка, которую где-то неподалеку наигрывала невидимая пианола. Завершал звуковое оформление вечера несмолкающий глухой шум уличного движения.
Филиппс наслаждался открывавшимся из окна видом и происходившими в нем переменами — вот свет в небе померк, и улица погрузилась во тьму. Площадь постепенно затихла, а Филиппс все сидел у окна и мечтал, пока резкий звон дверного колокольчика не вернул его к действительности. Глянув на часы, Филиппс обнаружил, что уже больше десяти. В дверь постучали. Дождавшись разрешения, в комнату вошел мистер Дайсон, уселся, по своему обыкновению, на подлокотник кресла и молча закурил.
— Вы знаете, Филиппс, — сказал он через некоторое время. — Меня всегда привлекали загадочные стороны жизни. Вы же, помнится, сидя в этом самом кресле, доказывали, что литературе не следует обращаться к чудесному и задерживаться на всякого рода странных стечениях обстоятельств, ибо чудесное и невероятное, как правило, в жизни не случается и жизнь человеческая определяется не этим. Пусть так, но я все равно не согласен с вами, ибо считаю метод "критики жизни" бессмысленным. А теперь я готов опровергнуть и ваши исходные посылки. Сегодня вечером со мной произошло нечто необычное.