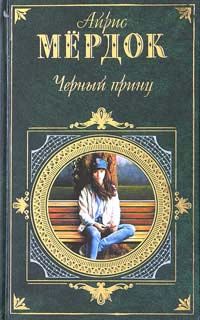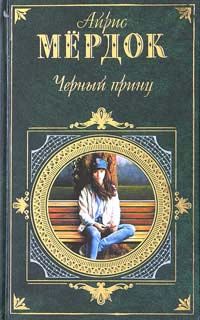— Может быть, лесорубы Канады? По-моему, в Австралии…
— Чем же это объяснить?
— Не знаю, Брэдли, ты мне скажи.
— Тем, что Шекспир силой размышления о себе самом создал новый язык, особую риторику самосознания…
— Не поняла…
— Все существо Гамлета — это слова. Как и Шекспира.
— «Слова, слова, слова».
— Из какого еще произведения литературы столько мест вошли в пословицы?
— «Какого обаянья ум погиб!» [20]
— «Все мне уликой служит, все торопит».
— «С тех пор, как для меня законом стало сердце».
— «Какой же я холоп и негодяй!»
— «На время поступишься блаженством».
— И так далее, до бесконечности. Как я и говорил, «Гамлет» — это монумент из слов, самое риторическое произведение Шекспира, самая длинная его пьеса, самое замысловатое изобретение его ума. Взгляни, как легко, с каким непринужденным, прозрачным изяществом закладывает он фундамент всей современной английской прозы.
— «Какое чудо природы человек…»
— В «Гамлете» Шекспир особенно откровенен, откровеннее даже, чем в сонетах. Ненавидел ли Шекспир своего отца? Конечно. Питал ли он запретную любовь к матери? Конечно. Но это лишь азы того, что он рассказывает нам о себе. Как отваживается он на такие признания? Почему на голову его не обрушивается кара настолько же более изощренная, чем кара простых писателей, насколько бог, которому он поклоняется, изощреннее их богов? Он совершил величайший творческий подвиг, создал книгу, бесконечно думающую о себе, не между прочим, а по существу, конструкцию из слов, как сто китайских шаров один в другом, высотою с Вавилонскую башню, размышление на тему о бездонной текучести рассудка и об искупительной роли слов в жизни тех, кто на самом деле не имеет собственного «я», то есть в жизни людей. «Гамлет» — это слова, и Гамлет — это слова. Он остроумен, как Иисус Христос, но Христос говорит, а Гамлет — сама речь. Он — это грешное, страждущее, пустое человеческое сознание, опаленное лучом искусства, жертва живодера-бога, пляшущего танец творения. Крик боли приглушен, ведь он не предназначен для нашего слуха. Красноречие прямого обращения oratio recto, а не oratio obliqua [21]. Но адресовано оно не нам. Шекспир самозабвенно обнажает себя перед почвой и творцом своего существа. Он, как, быть может, ни один художник, говорит от первого лица, будучи на вершине искусства, на вершине приема. Как таинствен его бог, как недоступен, как грозен, как опасно к нему обращаться, это Шекспиру известно лучше, чем кому бы то ни было. «Гамлет» — это акт отчаянной храбрости, это самоочищение, самобичевание пред лицом бога. Мазохист ли Шекспир? Конечно. Он король мазохистов, его строки пронизаны этим тайным пороком. Но так как его бог — это настоящий бог, а не eidolon [22], идолище, порожденное игрой его фантазии, и так как любовь здесь создала собственный язык, словно бы в первый день творения, он смог преосуществить муку в поэзию и оргазм — в полет чистой мысли…
— Брэдли, погоди, остановись, прошу тебя, я совершенно ничего не понимаю…
— Шекспир здесь преобразует кризис своей личности в основную материю искусства. Он претворяет собственные навязчивые представления в общедоступную риторику, подвластную и языку младенца. Он разыгрывает перед нами очищение языка, но в то же время это шутка вроде фокуса, вроде большого каламбура, длинной, почти бессмысленной остроты. Шекспир кричит от боли, извивается, пляшет, хохочет и визжит — и нас заставляет хохотать и визжать — в нашем аду. Быть — значит представлять, играть. Мы — материал для бесчисленных персонажей искусства, и при этом мы — ничто. Единственное наше искупление в том, что речь — божественна. Какую роль стремится сыграть каждый актер? Гамлета.
— Я один раз тоже играла Гамлета, — сказала Джулиан. — Что?
— Я играла Гамлета, еще в школе, мне было шестнадцать лет.
Я сидел, положив обе ладони поверх закрытой книги. Теперь я поднял голову и внимательно посмотрел на Джулиан. Она улыбнулась. Я не ответил на ее улыбку, и тогда она хихикнула и залилась краской, одним согнутым пальцем отведя со лба прядь волос.
— Неважно получалось. Скажи, Брэдли, у меня от ног не пахнет?
— Пахнет. Но пахнет восхитительно.
— Я лучше надену сапоги. — Она стала, вытянув ногу, заталкивать ее обратно в лиловую оболочку. — Прости, я прервала тебя, продолжай, пожалуйста.
— Нет. Спектакль окончен.
— Ну, пожалуйста! Ты говорил такие дивные вещи, я, конечно, мало что понимаю. Жалко, что ты не позволил мне записывать. А можно, я сейчас запишу? — Она застегивала «молнии» на голенищах.
— Нет. То, что я говорил, не пригодится тебе на экзамене. Это премудрость для избранных. Если ты попробуешь сказать что-нибудь такое, непременно провалишься. Да ты и не понимаешь ничего. Это неважно. Тебе надо выучить несколько простых вещей. Я пришлю тебе кое-какие заметки и две-три книги. Я знаю вопросы, которые они задают, и знаю, за какие ответы ставят высшие баллы.
— Но я не хочу облегчать себе работу, я хочу делать все по-серьезному, и потом, если то, что ты говорил, — правда…
— В твоем возрасте нельзя бросаться этим словом.
— Но мне очень хочется понять. Я думала, Шекспир был деловой человек, интересовался деньгами…
— Конечно.
— Но как же он тогда…
— Давай выпьем чего-нибудь.
Я встал. Я вдруг почувствовал себя совершенно обессиленным, я был с головы до ног весь в поту, словно купался в теплой ртути. Я открыл окно и впустил вялую струю чуть более прохладного воздуха, загрязненного, пыльного, но все-таки донесшего из дальних парков полувыветрившиеся воспоминания о запахах цветов. Комнату наполнил слитный шум улицы — машин, людских голосов, неумолчный гул лондонской жизни. Я расстегнул рубашку до самого пояса и поскреб в седых завитках у себя на груди. Потом обернулся к Джулиан. И, подойдя к висячему шкафчику, вынул стаканы и графин с хересом.
— Итак, ты играла Гамлета, — сказал я, разливая вино. — Опиши свой костюм.
— Да ну, обычный костюм. Все Гамлеты ведь одеты одинаково, если только представление не в современных костюмах. Наше было не в современных.
— Сделай, что я тебя просил, пожалуйста.
— Что?
— Опиши свой костюм.
— Ну, я была в черных колготках, и черных бархатных туфлях с серебряными пряжками, и в такой хорошенькой черной курточке, сильно открытой, а под ней белая шелковая рубашка, и толстая золотая цепь на шее, и… Ты что, Брэдли?
— Ничего.
— По-моему, у меня был костюм, как у Джона Гилгуда на картинке.
— Кто он?
— Брэдли, это актер, который…
— Ты меня не поняла, дитя. Продолжай.
— Все. Мне очень нравилось играть. В особенности фехтование в конце.
— Пожалуй, закрою окно, — сказал я, — если ты не возражаешь.
Я закрыл окно, и лондонский гул сразу стал смутным, словно бы звучащим где-то в сознании, и мы оказались с глазу на глаз в замкнутом, вещном пространстве. Я смотрел на нее. Она задумалась, расчесывая длинными пальцами иззелена-золотистые слои своих волос, воображая себя Гамлетом со шпагой в руке.
— «Так на же, самозванец-душегуб!»
— Брэдли, ты просто читаешь мои мысли. Ну, пожалуйста, расскажи мне еще немного, ну вот что ты сейчас рассказывал. В двух словах, а?
— «Гамлет» — это пьеса a clef [23]. Пьеса о ком-то, кого Шекспир любил.
— Но, Брэдли, ты этого не говорил, ты говорил…
— Довольно. Как поживают родители?
— Ну вот, ты опять меня дурачишь. Поживают обычно. Папа целыми днями в библиотеке — строчит, строчит, строчит. Мама сидит дома, переставляет мебель и понемножку киснет. Обидно, что она не получила образования. Она ведь такая способная.
— Этот снисходительный тон крайне неуместен, — сказал я. — Они не нуждаются в твоей жалости. Это замечательные люди, и он, и она, и у обоих есть своя настоящая личная жизнь.
— Прости. Это, наверно, прозвучало ужасно. Я, наверно, вообще ужасная. Я думаю, все молодые ужасны.
— «Во имя бога, бросьте ваш бальзам!» Не все.
— Прости, Брэдли. Но правда, приходил бы ты к родителям почаще, мне кажется, ты на них хорошо действуешь.
Мне было немного стыдно спрашивать ее об Арнольде и Рейчел, но я хотел удостовериться и удостоверился, что они не говорили ей обо мне ничего плохого.
— Итак, ты хочешь быть писателем, — сказал я. Я все еще сидел, откинувшись к окну, и она повернула ко мне свое скрытное, оживленное узкое личико. Грива густых волос делала ее похожей скорее на славную собачонку, чем на наследника датского трона. Она закинула ногу на ногу, выставляя для обозрения лиловые сапоги и высоко открытые, обтянутые розовым ноги. Рука ее теребила ворот, расстегивала еще одну пуговицу, ныряла за пазуху. Пахло ее потом, ее ногами, ее грудями.
— Да, я чувствую, что могу писать. Но я не тороплюсь. Я готова подождать. Я хочу писать плотную, жесткую, безличную прозу, ничуть не похожую на меня самое.