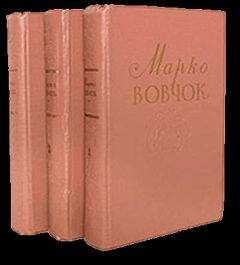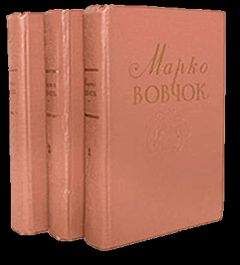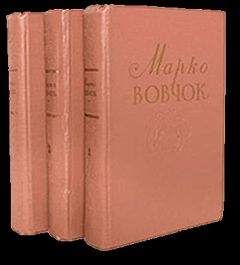— Ах ты, убогая кроха! Ишь какой псалом пропел! Нет, друг ты души моей, старого воробья на мякине не проманешь! Мы ведь свету-то божьего повидали, не из одной печи хлеб едали! Я, чтобы тебе было то известно, родом из православного града Курска, а мы, курячки, народец господень исправный: головка-то у нас не на одну поставку для шапки имеется, а тоже и для соображеньица! Так-то-с! По морю-то житейскому нам тоже не впервой плавать — таки кое-что произошли: сиживали и на мели, хлебали и водицы пучинной… Нет, ты этих псалмов мне не воспевай: это коли из села какой-нибудь Иван, так он бы на веру принял, а мы сами с усами! Не воспевай, не воспевай: я на это добро и сама мастерица. Я как захочу, так я так воспою, что всякая тварь на колени падет… Только я теперь гуляю, и затяну я свою песенку стародавнюю…
И она несказанно высоким, неописанно тонким, режущим как нож голосом, покивая главою, поводя раменами, приморгивая и подохивая, запела:
Я еще у вас, родители,
Я просить буду и кланяться:
Не оставьте вы, родители,
Моего вы да прошеньица!
Не возил бы меня чуж-чуженин
На чужую на сторонушку,
Ко чужому сыну ко отецкому,
Не пасся бы он, ох, не готовился,
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешеньки,
Еще есть три разные болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством не уступчива.
Отец Еремей не только не прерывал этого пения, но прислушивался к нему, повидимому, с великим сочувствием, как человек, которому знакомая гармония, внезапно раздавшись, вдруг привела на память дни невозвратной юности; перенесенный воспоминанием в эту исполненную надежд и упования эпоху жизни, слабый смертный как бы застигнут врасплох, и хотя суровый рассудок повелевает ему: "Оставь сетовать о минувшем, которого воротить не можешь!", чувствительное сердце его не перестает тоскливо биться, и плененный слух жадно ловит звуки, давно-давно не слышанные, но навеки незабвенные.
Когда же мать Секлетея окончила, прищелкнула перстами и, изменив минорный тон на плясовой, с гиком и визгом подхватила:
Под младцом травка не топчется,
Лазорев цветочек не ломится,
На нем синь кафтан не тряхнется…
Он, в то мгновение, когда певица переводила дух, проговорил:
— Вы из Курска родом, мать Секлетея! Из Курска!
И смолк, как бы подавляемый потоком вдруг нахлынувших о граде Курске воспоминаний.
— А что? Или и ты оттуда же? — спросила мать Секлетея.
— Да, да!.. да… — тихо продолжал отец Еремей, как бы не внимая обращенному к нему вопросу, а погружаясь все глубже и глубже в бездну сердце стесняющих, но сладостных воспоминаний:- Да… да… Садочки там, цветки всякие… Жители столь благочестивые… храмы божий благолепные… Да!.. Да!.. приязнь… беспечальное житие… юность…
— Полно тебе кружева-то плесть! — прервала мать Секлетея вышеприведенные, как бы вырывавшиеся из души терновского пастыря, отрывочные слова. — Полно кружева-то плесть! Какие это у тебя там «садики», какие «юности»? Ведь ты туляк. Ты думал, не знаем? Всё мы знаем, всю твою подноготную! Ведь туляк? Ах ты, гусек лапчатый! и туда ж расшибается: "садики!", "юность!"
— Губернии близки, смежны, — кротко, как бы не возражая, а только на вид представляя, ответил отец Еремей: — вы воспомнили место своей родины, а я тоже, многогрешный…
— Воспомнил? Ты, надо полагать, с самых пеленок Котофей Котофеич был…
— Я тоже, многогрешный, не камень, а живая плоть и кровь, — смиренно продолжал отец Еремей. — Я воспомнил дни беспечального отрочества моего и невинных моих забав и игр… Я воспомнил родителей, воспомнил…
Он внезапно смолк, с глубоким вздохом возвел очи горе, потом закрыл их и столь живо явил подобие упомянутого материю Секлетеею Котофея Котофеича, что я бы в то мгновение ничуть не изумился, если бы внезапно двуличневая лиловая с алым ряса исчезла, на месте ее появилась бы серая или же пятнистая мягкая шкурка, а вместо медоточивых речей раздалось ласкательное мурлыканье.
— Ишь, очесами-то чудотворничает! — воскликнула мать Секлетея. — Знатно, сударик, знатно, да только этого-то товару у нас у самих все закрома полнехоньки. Говори-ка лучше дело, по чести. Ты все держишь в голове: "Она пьяна!", а я тебе сказываю: ан нет, не пьяна и все до щенту соображает. Да! и соображает и помнит. Ты что там заводишь о ближних-то да о христианских крохах? Ну-ка, покраснобайничай еще, да попространнее, попонятнее! Крохи! Крохи эти один призрак, а ты лучше переложи-ка на православные рублики… Что же ты завертелся, словно тебя жаром посыпали?
— Заря вечерняя уже скоро воспылает, — мягко проговорил отец Еремей, — и время, я полагаю, нам продолжать путь. Мать Секлетея, не позволите ли сестре Олимпиаде убрать остатки трапезы и утолить ими голод меньшей братии нашей?
— Ты к чему это ведешь-то? — спросила буйная мать Секлетея.
— Пусть они удалятся в мире, — отвечал отец Еремей, окидывая благословляющим оком, — пусть они удалятся в мире, а мы побеседуем…
— А! так бы и говорил, а то все с вавилонами! Что ни слово — то вавилон! Олимпиада, убирай да позакупорь бутыли — слышишь? Ведь ты у меня росомаха росомаховна… Погоди! дай еще рюмочку малиновенькой выпью!
Пока сестра Олимпиада вращала своими зеркальными очами, отыскивая между многими стоящими тут бутылями «малиновенькую», отец Еремей с некоторою стремительностию подвинул матери Секлетее и искомое и сосуд.
— Ну, вот добрый! — оказала мать Секлетея, повидимому тронутая таким вниманием терновского пастыря, — ну, вот добрый! Я буду помнить твою доблесть, буду…
С этими словами она наполнила до краев сосуд, причем по неверности хотя пламенно сверкавшего, но уже неясно различающего предметы ока обагрила и ковер алою влагою, и выпила медленно, с наслаждением проглатывая по капле.
— Не осуждаешь? — спросила она терновского пастыря, внезапно переходя от буйства к смирению.
— Сказано: не осуждай, да не осужден будеши! — мягко и благосклонно отвечал ей терновский пастырь. — Я не осуждаю никого! Дух бодр, но плоть немощна…
— Ох, плоть, плоть! — задумчиво повторила мать Секлетея, грустно подпирая ланиту рукою. — И потерпела ж она, горькая эта плоть наша! И вспомнишь, так дух захватывает!
Терновский пастырь испустил глубоко сочувственный вздох и с тихою скорбию проговорил:
— Все мы обречены на испытания в сей юдоли плача и воздыхания! Юдоль сия…
— Врешь! все врешь! — горестно, но без буйства перебила мать Секлетея. — Чем тут «юдоль» виновата? То-то ведь и обидно сердцу, что одна юдоля, а разная доля!
— Божие предопределение, мать Секлетея. Провидение в неисповедимых путях своих…
— Перестань! Все это сама знаю досконально, — знаю, а все-таки обидно, что вот меня целый век за чуб трепали! Понимаешь?
— Небезызвестно мне, что вы претерпели многие страдания, мать Секлетея! За великие подвиги ваши господь сподобит вас венца славы своей и…
— Перестань! Сама все это знаю досконально!
— Покоримся…
— Перестань! Я покоряюсь, да ведь и тряпка трещит, как ее рвут, а я человек! Понимаешь? Ты это пойми. Берут тебя живого и… Дай-ка еще чуточку малиновенькой! где она?
На этот раз терновский пастырь не только пододвинул малиновенькую, но даже взял ее в десницу, сам ею наполнил сосуд и преподнес изливавшей перед ним душу собеседнице, которая, проглотив, как пилюлю, любезный ей напиток, продолжала еще с сугубейшим жаром:
— Ну, была я живой человек…
— Вы с младых лет ваших, мать Секлетея, в Краснолесской обители подвизаетесь?
— С младых подвизаюсь — с пятнадцати! Родитель-то у меня самодур был и к тому же выпивал. Сидит это он раз под оконцем хмельной и видит, идет мимо монашка, и очень ему с пьяных-то глаз показалась. "Хочу, говорит, чтоб у меня своя монашка была!" Взял да и отвез меня в обитель. И кланялась я, и просилась, и молилась, — "хочу, чтобы у меня своя монашка была и грехи мои отмаливала!" И конец! Вот и засадил меня в обитель… А матери игумении тогда надобна была служка… "Давай, — говорит родителю, — давай я ее наставлю!" И наставила ж! Косточки во мне немятой не осталось! Не осталось прежнего моего образа и подобия, измолола она меня, испорошила и свою из меня куколку слепила. Я не то что семь мытарств прошла, их бессчетное число!
Чем далее, тем тон ее речи все более и более переходил в минорный, а под конец она, как бы устыдясь своей чувствительности, прикрыла лицо рукавом своего черного монашеского одеяния.
— Господь зачтет праведным претерпенное! — сказал отец Еремей тоном пламенной веры. — Наградит… сторицею воздаст… Вы служили старшим с кротостию и смирением, и господь вознесет вас за добродетели ваши… поставит вас во главе… поставит во главе…