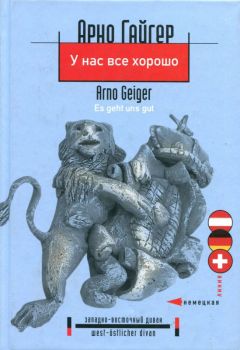Наконец Джон добился полного счастья. Теперь ему оставалось только не упустить выпавших на его долю благ, с известным вниманием относиться к своему почтенному отцу и тратить карманные деньги, имевшиеся у него в избытке, наиприятнейшим для себя образом. Все это он проделывал с большим спокойствием и достоинством; причем одевался он как барон. Из ценных вещей ему ничего не пришлось докупать, и в этом обнаружилась его прозорливость, так как ему вполне хватало приобретенного много лет тому назад в достаточном количестве и с точным учетом того, что потребуется ему в зените счастья. Битва при Ватерлоо сверкала и гремела на успокоенной груди, цепочки и брелоки колыхались на ублаготворенном чреве, глаза сквозь золотые очки бросали довольные и горделивые взгляды, камышовая трость служила не столько опорой, сколько украшением умного мужчины. Прекрасный портсигар был всегда полон отличных сигар, которые он с толком курил из мундштука со знаменитой группой. Дикий конь приобрел лоснящуюся коричневую масть, а сидящий на нем Мазепа стал бледно-розового, почти телесного цвета, и в результате объединенных усилий скульптора и курильщика это произведение искусства поистине вызывало восхищение всех знатоков. Папаша Литумлей был им также очарован и стал учиться у своего приемного сына обкуриванию пенки, для чего и приобрел целую партию пенковых трубок. Но старик был слишком беспокоен и нетерпелив для этого благородного искусства, так что Джону нужно было все время приходить ему на помощь, направлять его, чем он внушил старику еще большее уважение и доверие к себе.
Вскоре им обоим представилось более важное дело. Папаша стал настаивать, чтобы они сообща придумали и написали роман, который должен был возвести Джона в звание незаконнорожденного сына. Предполагалось, что это будет тайный семейный документ в форме отрывочных воспоминаний. Чтобы предотвратить ревность и беспокойство со стороны госпожи Литумлей, решено было писать этот роман тайком и незаметно спрятать его в будущем семейном архиве. Лишь со временем, когда род Литумлеев расцветет, этот документ должен был появиться на свет и поведать миру историю его происхождения.
Джон заранее решил называться после смерти старика не просто Литумлей, а Кабюс де Литумлей, так как питал к своей фамилии, которую он выковал с таким изяществом, вполне простительную слабость. Что касается документа, который они собирались сочинить, то, поскольку он лишал его законного происхождения и превращал его мать в распутницу, Джон решил со временем сжечь его без всяких церемоний. Но пока ему приходилось принимать участие в работе над его созданием, что несколько омрачало его благополучие. Все же он благоразумно подчинился необходимости и однажды утром заперся со стариком в садовом павильоне, чтобы взяться за дело. Они уселись за столом друг против друга, и тут им вдруг стало ясно, что осуществить эту идею труднее, чем они полагали, так как ни тот, ни другой в своей жизни не написал и сотни связных строк. Им никак не удавалось начало, и чем больше они шушукались, тем труднее было им что-либо придумать. Наконец сын сообразил, что для создания документа, рассчитанного на долгое хранение, требуется прежде всего стопа плотной и красивой бумаги. Обоим это соображение показалось убедительным. Они вышли и в поисках такой бумаги дружно обошли весь город. А так как погода, стояла жаркая, они сразу рассудили, что нужно зайти в кабачок освежиться и собраться с мыслями. Там они с удовольствием выпили по нескольку кружек пива, поели орехов, хлеба, сосисок, после чего Джон вдруг заявил, что начало романа он уже придумал и должен прямехонько побежать домой, чтобы на свежую память записать его.
— Ну, беги скорее, — сказал старик, — а я пока придумаю продолжение. Чувствую, что дело к этому идет.
Джон со стопой бумаги в руках вошел в павильон и записал следующее:
«Это случилось в 17… году. Год этот был урожайный. Ведро вина стоило семь гульденов, ведро яблочного сидра — полгульдена, литр вишневой настойки — четыре бацена, булка весом в два фунта — один бацен, а такая же буханка ржаного хлеба — полбацена, а мешок картофеля — восемь баценов. Урожай сена был хороший, мера овса стоила два гульдена. Урожай гороха и фасоли тоже был хороший, а льна и пеньки — плохой, масличных же растений, сала и всякого жира было вдоволь, так что в общем получилось такое странное явление, что населению еды и напитков хватало, но с одеждой дело обстояло плохо, с освещением же, напротив, хорошо. Так закончился старый год, и каждому, само собой разумеется, было интересно знать, что принесет ему новый. Зима была такая, как хорошей зиме полагается быть — холодная и ясная. Теплая снежная пелена лежала на полях и защищала молодые всходы. Но тут в конце приключилось нечто странное. В течение февраля месяца снегопад, оттепель и мороз так часто следовали друг за другом, что появились не только всякие болезни, но и образовались во множестве ледяные сосульки, так что вся местность напоминала большой стекольный магазин, а жители ходили с дощечкой на голове, чтобы предохранить ее от падающих острых ледяшек. Однако в общем цены на продукты оставались те же и поколебались лишь при наступлении той достопримечательной весны».
Тут примчался старик, выхватил у Джона лист и, не прочитав того, что было написано, без лишних разговоров написал следующее:
«Но вот явился Он, и звали его Адам Литумлей. Он шутить не любил и родился в 17… году. Налетел он поэтому как весенняя гроза. Уж был он таковский. Носил он красный бархатный камзол, шляпу с пером и шпагу на боку. Носил он золотой жилет с изречением: «Молодости все дозволено!» Носил он золотые шпоры и ездил верхом на белом коне. Он поставил его в конюшне в первой попавшейся гостинице и воскликнул: «Ну, черт с ним! Теперь весна, а молодость должна перебеситься!» Он за все платил наличными, и все ему удивлялись, он пил вино, он ел жаркое, он говорил: «Все это мне нипочем». А потом сказал: «Приди ко мне, любимая красотка, ты мне дороже, чем вино и жаркое, серебро и золото. Мне на них наплевать! Уж ты как хочешь, но чему быть, того не миновать!»
Тут старик неожиданно застрял и не мог больше ничего придумать. Прочитав совместно все написанное, они нашли, что сделано недурно, а потом в течение недели собирались с мыслями для дальнейшей работы, причем вели очень ветреный образ жизни и часто заходили в пивную в поисках вдохновения; но счастье улыбается не каждый день. Наконец Джон снова поймал нить рассказа и, прибежав домой, написал продолжение:
«С такими словами обратился молодой Литумлей к некоей девице Лизелейн Федершпиль, которая жила на окраине города, где было много садов и начинались рощицы и перелески. Это была одна из самых прелестных красавиц, которые когда-либо рождались в этом городе, с голубыми глазами и маленькими ножками. Она была так чудно сложена, что ей не приходилось тратиться на корсет, а ввиду своей бедности она скопила из этих сбережений некоторую сумму и купила себе фиолетовое шелковое платье. Но все это было омрачено общей грустью, которая также трепетала не только на миловидном лице, но во всех гармонических членах девицы Федершпиль, так что в тихую погоду, казалось, слышны были печальные аккорды эоловой арфы. Ибо наступил достопамятный месяц май, когда смешались все времена года. Вначале шел снег, и соловьи пели с хлопьями снега на голове, так что казалось, будто, на них надели белые колпачки. Потом вдруг наступила такая жара, что дети купались на свежем воздухе и вишни зрели, о чем повествует хроника в следующем четверостишии:
Снег и морозы,
Зреют вишни, цветут лозы,
Купаются дети в пруду.
Все в мае смешалось в этом году.
Эти явления внушали людям тревогу и действовали на них по-разному. Девица Лизелейн Федершпиль, будучи особенно чувствительной, предалась раздумью и впервые поняла, что ее радость и горе, ее добродетель и падение — в ее собственных руках; вот почему, держа весы и взвешивая на них эту ответственную свободу, она очень опечалилась. Но как раз в это время предстал перед ней тот повеса в красном камзоле и без околичностей сказал:
«Федершпиль, я люблю тебя!»
Услышав это, она по велению судьбы изменила свой, образ мыслей и звонко рассмеялась».
— Дай-ка я буду продолжать, — воскликнул старик, который прибежал, запыхавшись, вслед за Джоном и прочитал через его плечо то, что было написано. — Это как раз для меня! — и стал писать дальше:
«Тут смеяться нечего, — сказал он, — я шутить не люблю».
Словом, случилось то, что должно было случиться. А потом в лесочке на горке сидела моя Федершпиль среди зелени и все еще смеялась. Но рыцарь уже вскочил на своего коня и так быстро умчался вдаль, что через несколько минут лишь мелькнул голубым пятном в далекой воздушной перспективе. Он исчез и не вернулся больше, ибо был настоящим отродьем дьявола».