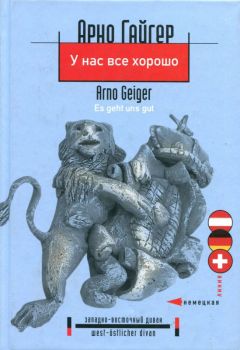— Ну, это самое уже произошло! — воскликнул Литумлей и бросил перо. — Я свое дело сделал, а ты дописывай конец, я совсем из сил выбился с этими дьявольскими выдумками. Клянусь Стиксом, меня ничуть не удивляет, что родоначальников знатных семей так почитают и рисуют во весь рост: теперь только я почувствовал, какого труда стоило мне основание моего рода. А ведь я все это здорово придумал, не правда ли?
Джон написал дальше:
«Бедная девица Федершпиль была весьма недовольна, заметив, что молодой соблазнитель исчез почти одновременно с достопамятным месяцем маем. Тем не менее со свойственным ей присутствием духа она решила признать все случившееся не случившимся, чтобы привести весы в состояние прежнего равновесия. Но недолго наслаждалась она этим эпилогом своей невинности. Пришло лето, началась жатва, от обильного золотого урожая было желто в глазах. Цены снова значительно снизились. Лизелейн Федершпиль стояла на горке, на все смотрела, но ничего не видела из-за своего горя и раскаяния. Пришла осень, каждая лоза была струящимся фонтаном, земля все время гудела отпадавших на нее груш и яблок; все пили и ели, продавали и покупали. Каждый делал запасы, вся округа превратилась в одну сплошную ярмарку, и хотя все было дешево и имелось в изобилии, люди с хвалой, любовью и благодарностью принимали всякий избыток. Лишь благодать, которая снизошла на девицу Федершпиль, не имела никакой цены, на нее не было спроса, как будто всей этой людской толпе, утопавшей в изобилии, в тягость был один лишний ротик. Тогда она замкнулась в своей добродетели и месяцем раньше положенного времени родила крепкого мальчика, которому суждено было стать кузнецом своего счастья.
Этот сын так мужественно пробивался в жизни, что чудесная судьба свела его, наконец, с отцом, который принял его с почетом и восстановил в законных правах. Это и есть, как известно, второй основатель рода Литумлей».
Этот документ старик скрепил следующей подписью: «Прочел и удостоверил Иоганн Поликарп Адам Литумлей». Джон также поставил свою подпись. Затем господин Литумлей приложил свою печать с гербом, на котором были изображены три половинки золотых удочек на синем фоне и семь трясогузок в белую и красную клетку, сидящих на гербовом щите.
Все же их удивило, что это произведение не вышло более объемистым, так как из целой стопы бумаги они исписали не больше одного листа. Тем не менее они спрятали его в архив, приспособив для этого старый железный ящик, после чего пришли в хорошее настроение и остались очень довольны друг другом.
В таких и тому подобных занятиях время проходило самым приятным образом. Удачливому Джону становилось почти жутко при мысли, что ему уже не надо надеяться, чего-то опасаться, что-то ковать и придумывать.
Подыскивая себе какую-нибудь новую деятельность, он вдруг возымел подозрение, что супруга хозяина дома, судя по выражению ее лица, как будто им недовольна и смотрит на него с подозрением. Правда, это было только его предположение, утверждать с уверенностью он ничего не мог. Из-за других своих дел он мало внимания обращал на эту женщину, которая если не спала, то всегда чем-нибудь лакомилась, ни во что не вмешивалась и, когда не нарушали ее покой, всем была довольна. Теперь он вдруг стал бояться, как бы она не придала его делу плохой оборот, не настроила бы против него своего мужа и тому подобное.
Приставив палец к носу, он сказал:
— Стой! Теперь будет как раз кстати нанести последний штрих. Как это я мог упустить из виду такое важное обстоятельство? Что хорошо — то хорошо, но что лучше — то еще лучше!
Старик как раз вышел на тайные поиски подходящей супруги для продолжателя своего рода, о чем он ему, однако, ничего не сказал. Джон тут же решил пойти к хозяйке дома с неясным намерением поухаживать за ней, вкрасться к ней в доверие и таким путем наверстать упущенное. Чинным, еле слышным шагом спустился он по лестнице до комнаты, где она по большей части находилась, и нашел дверь, по обыкновению, полуоткрытой, так как при всей своей лени она была крайне любопытна и любила прислушиваться ко всему, что происходило в доме.
Он осторожно вошел и увидел, что она, как обычно, дремлет, держа в руке недоеденное малиновое пирожное. Сам еще не зная, с чего начать, он на цыпочках подошел к ней, взял ее полную руку и почтительно поцеловал ее. Она даже не пошевельнулась, только глаза ее полуоткрылись и, пока он стоял перед ней, смотрели на него с весьма загадочным выражением. Смущенный, он что-то пробормотал и убежал в свою комнату, но все время, пока он сидел у себя в углу, перед ним неотступно стоял взгляд ее прищуренных глаз. Он поспешно сошел вниз, женщина лежала по-прежнему неподвижно, только когда он подошел, опять приоткрыла глаза. Он снова убежал, снова уселся в углу своей комнаты, в третий раз вскочил, сбежал с лестницы, шмыгнул к ней и оставался там до тех пор, пока не пришел патриарх.
Не проходило дня, чтобы эта парочка не встречалась, причем они умудрялись так ловко обманывать старика, что он ни о чем не догадывался. Сонливая женщина вдруг по-своему оживилась, а Джон платил своему благодетелю самой разнузданной неблагодарностью, с единственной целью упрочить свое положение и окончательно приковать к себе свое счастье.
Оба грешника прикидывались при этом такими внимательными и преданными в своих отношениях с обманутым Литумлеем, что он чувствовал себя прекрасно и считал свою семейную жизнь образцовой; и трудно было даже решить, кто из двух мужчин более доволен собою. Но однажды утром победу, по всей видимости, одержал старик, имевший таинственный разговор со своей женой. Он с каким-то необычным видом расхаживал по дому, ни одной минуты не стоял на месте, все пытался насвистывать какие-то мотивы, что ему из-за отсутствия зубов плохо удавалось. Он как будто даже вырос за одну ночь на несколько дюймов. Словом, являл собой воплощение самодовольства. Но в тот же день победа стала клониться на сторону молодого, когда старик неожиданно его спросил, не желает ли он предпринять длительное путешествие, чтобы свет повидать, самому поучиться и главным образом ознакомиться с методами воспитания в различных странах, с господствующими там на этот счет принципами, особенно применительно к знатным сословиям.
Ничто не могло быть для Джона более соблазнительным, чем такое предложение, и он с радостью согласился. Его быстро снарядили в дорогу, снабдили чеками, и он в полном блеске отправился в путь. Сначала он посетил Вену, Дрезден, Берлин и Гамбург, потом отважился даже съездить в Париж, и всюду вел роскошный, но благоразумный образ жизни. Там он познакомился со всеми увеселительными местами, летними театрами, всеми зрелищами, обегал все залы редкостей во дворцах, не пропускал ни одного парада и в полдень, стоя на солнцепеке, слушал музыку и глазел на офицеров до тех пор, пока не наступало время обедать. Стоя среди тысячной толпы и созерцая все это великолепие, он испытывал необычайную гордость, как бы ставя себе в заслугу весь этот блеск и звон, и считал каждого, кто там не присутствовал, невежественным простофилей. Но с умением наслаждаться он сочетал величайшее благоразумие, желая доказать своему благодетелю, что тот послал в путешествие не какого-нибудь вертопраха. Ни разу не подал он нищему, ни у одного бедного маленького разносчика ничего не купил, в гостинице упорно увиливал от чаевых, не терпя от этого никакого урона для себя, и долго торговался за каждую оказанную ему услугу. Больше всего забавляло его дурачить и высмеивать погибших созданий, с которыми он развлекался на балах в компании двух-трех своих единомышленников. Словом, он жил обеспеченно и в довольстве, как старый коммивояжер по винной части.
На обратном пути он не мог отказать себе в удовольствии проехаться в свой родной город Зельдвилу. Остановившись в первоклассном отеле, он сидел за табльдотом с таинственным видом, еле цедил сквозь зубы слова, заставляя своих земляков ломать себе голову над вопросом, чем же он стал. Правда, они не сомневались, что он и теперь ничего путного из себя не представляет, но так как он, несомненно, стал состоятельным человеком, они воздерживались от насмешек и только хмуро щурились на золото, которое он все время выставлял напоказ. Он, однако, ни разу не поставил им бутылки вина, хотя на их глазах распивал самые лучшие сорта, думая при этом только, чем бы им еще больше досадить.
В конце своего путешествия он неожиданно вспомнил о данном ему поручении — ознакомиться в разных странах с существующими там методами воспитания и выработать принципы, на основе которых будут воспитываться отпрыски рода, основанного Литумлеем и продолженного Кабюсом. Выполнить это задание в Зельдвиле было ему особенно по душе, потому что тут он мог, разыгрывая важного чиновника просвещения, облеченного высокой миссией, еще больше дурачить зельдвильцев.