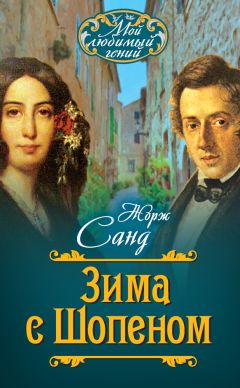Понятно, все, что я сейчас о нем скажу, чтобы познакомить вас и с ним самим и с его положением, стало мне известно не в тот день и не в том месте; да я и четвертой части не поняла бы тогда, мне понадобились годы, чтобы разобраться в том, о чем коротко расскажу вам сейчас.
Эмильен де Франквиль обладал характером и природным умом. Родные, стремясь помешать ему занять главенствующее положение в семье, хорошо и много поработали, дабы убить в мальчике ум и сердце. Его брат, видимо, был менее одарен от природы, но он был старшим, а в семье Франквилей все младшие дети вступали в орден. Это правило никогда не нарушалось, оно переходило из поколения в поколение, от отца к сыну. Маркиз, отец Эмильена, считал сие правило очень важным, важнее всех государственных законов. Маркиз утверждал, что оно упрощает введение в наследование и, значит, уменьшает роль стряпчих, которые любят всюду совать нос, заводят длиннейшие процессы и стараются раздробить крупные состояния. Мальчик, которому предназначено было стать монахом, ни на что не мог рассчитывать. Детей у него не будет; постригаясь, он не оставлял никаких зацепок в будущем для крючкотворов. Словом, так оно было заведено, и маленькому Эмильену, едва он научился отличать правую руку от левой, все это объяснили, отказав в праве на собственное суждение.
Можно предположить, что он пытался протестовать; но эти протесты подавили так быстро и решительно, что, едва вступив в жизнь, он уже для многого был мертв и так наивен в свои шестнадцать лет, какими бывают лишь в восемь. В наставники ему дали какого-то слабоумного, у которого, однако, хватило ума понять, что от него требуется одно: превратить ученика в такого же слабоумного, каким был он сам. Не преуспев в этом начинании до конца, ибо Эмильен всегда был и умен и разумен, он, делая вид, что занят обучением ребенка, всецело предоставил того самому себе. Мальчик, придя в монастырь, еле-еле мог читать и писать, но он о многом размышлял, многое понял на свой лад и сам преобразовал свою душу.
Сердце он отдал богу, как склонны поступать все, кому бог единственный друг и заступник; но чем настойчивее пытался наставник объяснить ему бога по-своему, тем решительнее склонялся ученик к своему собственному пониманию. Он отнюдь не был противником церкви. Но считал, что она вся — от мира сего, и, значит, ее не следует слишком возносить и вполне можно не одобрять и порицать, если церковь сбивается с пути истинного, предначертанного ей свыше. Над тем, что Эмильен мне сказал в тот первый день, он размышлял потом всю жизнь. Церковь, по его разумению, должна лишь учить любви к господу, утишать горести и врачевать раны. От всего остального Эмильен просто отмахивался, ни с чем не спорил — пусть говорят, что хотят, — и поступал согласно своей совести. В конце концов в силу того, что он был заброшен, предоставлен самому себе и вместе с тем от всего отстранен, Эмильен создал себе особый мир, положив в его основу собственные мечтания, и вошел во вкус этой уединенной и независимой жизни. Он никому не перечил и даже всем уступал из учтивости или от скуки; но переубедить его в чем-либо было делом невозможным, он ускользал от любого принуждения, едва лишь на него переставали обращать внимание. И в силу того, что у него отняли все, столь желанное людям, он стал презирать все, в чем ему было отказано.
Когда мы позавтракали, он уснул на нагретом солнцем камне. Потом, проснувшись, спросил меня, о чем я думаю, когда вяжу и приглядываю за овцой.
— Обыкновенно я думаю о множестве вещей сразу, — сказала я ему, — а потом и не вспоминаю о них; но сегодня я только дивилась вам: выходит, вы вертите монахами как хотите и проводите дни, где и как вам в голову взбредет?
— Не знаю, станут ли монахи бранить меня за это, — отвечал он. — Не думаю, потому что, если я приму постриг у них, они получат изрядный вклад, и им совсем не с руки отвратить меня от своей обители, прежде чем они получат мои деньги; это я уже понял. Что же до моего обучения, так они не станут особенно приставать ко мне.
— Почему же?
— По очень простой причине: они и сами знают не на много больше моего и, если слишком прилежно возьмутся за дело, очень быстро истощатся.
— И вы тоже презираете их, этих монахов?
— Нет, я их не презираю, я вообще никого не презираю. По-моему, они люди очень приятные, и я не стану огорчать их больше, чем они меня.
— Значит, вы будете иногда приходить повидаться со мной?
— Конечно, с удовольствием. И всякий раз, когда захочешь, буду приносить тебе еду.
Я вспыхнула от досады.
— Не нужно мне вашей еды, — сказала я, — у нас все есть, что мне нужно, и наши каштаны, по-моему, куда вкуснее ваших паштетов.
— Значит, тебе приятно меня видеть, раз ты хочешь, чтобы я приходил?
— Ну да; но если вы думаете…
— А я только то и думаю, что ты хорошая девочка, к тому же напоминаешь мне мою сестру; я буду рад снова тебя увидеть.
Начиная с этого дня мы виделись очень часто. Он правильно угадал, как станут вести себя с ним валькрёзские монахи; они позволили ему свободно располагать своим временем, требуя от него лишь присутствия на некоторых церковных службах, чему он и подчинился. Скоро он свел знакомство с моими братьями, и однажды мы вдоволь посмеялись его рассказу о том, как он был вызван приором и как тот сказал, что, поразмыслив над его юным возрастом, счел себя вправе освободить Эмильена от утренней службы.
— Вы не поверите, — добавил Эмильен, — что я имел глупость, поблагодарив приора, сказать, что привык вставать на рассвете и мне совсем не трудно простоять заутреню. Он твердил свое, а я — свое, стараясь показать, сколь я покорен уставу. Вот была потеха! Наконец брат Памфил толкнул меня локтем и, когда я вышел вслед за ним во двор, сказал мне: «Если вы, мой мальчик, во что бы то ни стало хотите ходить к заутрене, помните, что вы окажетесь в церкви в полном одиночестве: вот уже более десяти лет ни один из нас не ходит к заутрене, и отец приор был бы в большом затруднении, если бы вздумал приневолить нас к этому, ибо сам и побудил отменить столь бесполезное умерщвление плоти». Тогда я спросил у него, зачем в таком случае к этой службе звонят? Он ответил, что надо же и звонарю заработать себе на хлеб, а ничего другого этот бедный прихожанин делать не умеет.
Однако Жак утверждал, что есть и другая причина, почище этой.
— Монахи лицемеры, — сказал он. — Они хотят убедить прихожан, будто по утрам возносят молитвы богу, а сами в это время нежатся на своих пуховиках.
Жак не упускал случая поиздеваться над монахами и не стеснялся говорить Эмильену, что тот делает глупость, вступая в это сообщество лежебок. Когда дедушка слышал такие слова, он приказывал внуку замолчать, но братец Эмильен — так мы его называли — отвечал ему:
— Пусть себе говорит; монахов следует судить тем же судом, что и прочих людей. Я их знаю, я должен ладить с ними, чтобы мы ужились вместе. Я их не обвиняю, но и не считаю себя обязанным защищать. Если их занятие кажется бесполезным, значит они сами в том виноваты.
Когда братца не было с нами, мы почти все время говорили о нем. Наша жизнь была так бедна событиями, что частые посещения нового человека, иной раз проводившего с нами целые часы, не могли не казаться нам настоящим событием. Пьер, младший из братьев, любил его всем сердцем и защищал от нападок Жака, который не ставил его ни во что. В этом он сходился с дедушкой, упрекавшим Эмильена в том, что тот не умеет держаться в соответствии со своим благородным происхождением, забывает, что он Франквиль, и, наконец, что он не так благостен, как следовало бы будущему монаху.
— Пустой он человек, — говорил дедушка, — никогда из него не выйдет ни настоящего дворянина, ни настоящего монаха. Не злой, даже чересчур добрый; вроде бы порядочный, за девчонками еще не бегает, но не очень-то его беспокоят ни этот свет, ни тот, а между тем ежели не годишься для того, чтобы держать в руках шпагу, так надо быть пригодным служить в церкви.
— Кто это вам сказал, что он не мог бы держать в руках шпагу? — взволнованно кричал Пьер. — Он ничего не боится, и не его это вина, что из него не сделали доброго солдата, а превратили в заморыша монаха.
Я слушала эти споры, не очень-то зная, кому верить. Сперва я мечтала о дружбе с братцем; но он не выказывал мне такого внимания, какое выказывала ему я. Всегда он был в добром расположении духа, всегда готов услужить, провести часок-другой с первым встречным и вспоминал обо мне, только когда видел. Я вообразила, что смогу заменить ему сестричку, что утешу его в горестях, но у него больше не было горестей, которые он мог бы мне поверять. Он всем рассказывал о своем положении, никак его не оценивая, и повествовал о своем печальном детстве так, будто сам его не перестрадал; может быть, дело было в том, что смутная улыбка, постоянно блуждавшая на его лице и становившаяся еще шире, когда он говорил о вещах грустных, лишала его рассказы подлинного интереса. В общем, он отнюдь не походил на принесенное в жертву дитя, каким сперва я нарисовала его себе, и потому я вновь стала предпочитать ему Розетту, нуждавшуюся во мне, тогда как он не нуждался ни в ком.
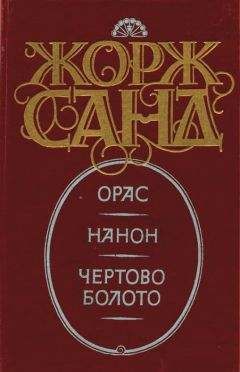
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)