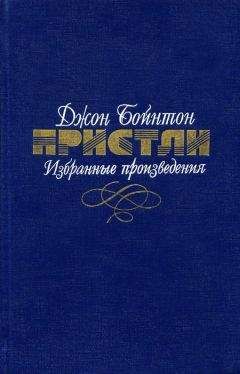Комментарий к Шалтаю-Болтаю
© Перевод. К. Атарова, 1988 г.
Насколько мне известно, «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» впервые публикуются на немецком языке. Узнав об этом немаловажном обстоятельстве, я сперва удивился: мне казалось, что эти вещи, ставшие у нас классикой, уже опубликованы на всех языках цивилизованного мира. Но, поразмыслив, понял, что, будь они популярны в Германии, мы бы об этом знали. Нетрудно вообразить, что произойдет, когда книги об Алисе станут там широко известны, потому что мы уже знаем, что произошло с Шекспиром. Соберется целое полчище комментаторов, и сотни напыщенных тевтонов усядутся строчить тяжеловесные тома комментариев и критических статей. Они сопоставят и противопоставят персонажей (будет даже отдельная глава о Ящерке Билле), они предложат несметное количество противоречащих друг другу объяснений каждой остроты. А потом непременно дойдет дело до Фрейда, Юнга и их последователей, они потрясут наше воображение книгами, посвященными «сексуальному подтексту» «Алисы в Стране Чудес» или «Assoziationsfähigkeit und Assoziationsstudien» Бармаглота, или глубинному смыслу конфликта между Тра-ля-ля и Тру-ля-ля — «с психоаналитической и психопатологической точки зрения». И мы впервые осознаем отталкивающую символику «безумного чаепития», а у моего доброго друга Безумного Шляпника обнаружится целый букет разнообразных неврозов. Что же до Алисы… но нет — Алису надобно пощадить. Не мне огорчать томящуюся тень Льюиса Кэрролла. Да пребудет она пока что в неведении относительно того, что на самом-то деле происходило в сознании Алисы, в этой, с позволения сказать, форменной «стране чудес».
А как бы чувствовал себя Шалтай-Болтай среди немецких критиков и комментаторов? Хотел бы я это знать, ведь мне всегда казалось, что в Шалтае-Болтае есть что-то от серьезности литератора настоящего. И не случайно он вспомнился мне как-то на днях, когда я читал исследование одного довольно-таки узколобого и начисто лишенного чувства юмора молодого критика, чье имя мне не хотелось бы обнародовать. Есть даже целая школка, объединяющая молодых литераторов в нашей стране и в Америке, в чьих работах, одновременно претенциозных и бессодержательных, всегда слышались мне какие-то странно-знакомые нотки. Но только на днях я понял, где я уже видел эти манеры, слышал эти интонации — в книге «Алиса в Зазеркалье». Шалтаю-Болтаю нужно воздать по справедливости; он пророческая фигура, и, создавая его, Льюис Кэрролл высмеял все племя критиков, которого тогда и не существовало. Теперь же, когда оно существует и то и дело донимает нас своими несносными сочинениями, самое время научиться ценить кэрролловский характер-шарж и воспринимать его в истинном свете — как шедевр сатирического предвосхищения. Я не собираюсь утверждать, что такое объяснение исчерпывает смысл образа Шалтая-Болтая, ибо не удивлюсь, если другие, более расширительные интерпретации этого образа будут предложены членами Теософского общества или кем-нибудь еще. Но меня интересует Шалтай-Болтай как литературный персонаж, и поэтому я ограничусь лишь этим аспектом. Давайте же рассмотрим текст, пока он еще в девственном виде и не отягчен интерпретациями немецких профессоров.
Как вы помните, Алиса обнаружила Шалтая-Болтая (кто был всего лишь яйцом из лавки) на верхушке высокой и страшно узкой стены и сначала приняла его за чучело. Это, как вы увидите, и есть наше введение в тему: запомните высокую стену, такую узкую, что Алиса недоумевала, «как он может сохранять равновесие» (курсив мой), и чучело. Запомните это и подумайте теперь о всеобщем кумире маленького литературного кружка, об этом по-совиному мудром юном критике мистере Дыркине, — больше я ничего не скажу.
Все эти критики любят сразу же показать свое полнейшее презрение к аудитории. Они пишут лишь для немногих избранных, для тех, кто способен оцепить Флобера, Стендаля и Чехова. Лишь для них. Шалтай-Болтай обнаруживает такой же взгляд в самом начале разговора. «У некоторых, — замечает он, — не больше ума, чем у грудного младенца». Он сразу же спрашивает Алису, что означает ее имя, и раздражается, так как она не может ответить, — важный момент, не нуждающийся в комментариях. Потом Алиса, воплощающая в этом разговоре здравый смысл, задает самый существенный вопрос: «А вы не думаете, что безопаснее было бы спуститься вниз?» И продолжает, вовсе не для того, чтобы загадывать загадки, а из чистосердечного беспокойства за это странное существо: «Ведь стена такая узкая!»
Весь этот абзац чрезвычайно важен. Заметьте, Шалтай-Болтай считает, что любой, самый простой вопрос — это загадка, которую он должен с блеском разрешить. Он не способен допустить, что Алиса, твердо стоящая на земле, может быть умнее его, может дать разумный совет, а не только искать ответы на пустопорожние головоломки. Он-то, конечно, предпочитает оставаться наверху, и его привлекает именно ужина этой стены. И снова на той же странице мы видим, как Шалтай-Болтай вдруг приходит в страшное волнение, когда Алиса договаривает за него про «всю королевскую конницу, всю королевскую рать». То, что он считал величайшим секретом, оказалось общеизвестным трюизмом, и только слепая гордыня мешала ему разглядеть это раньше: нет нужды ставить точки над «i» и проводить далее аналогию.
Очень типичен и педантизм, который он обнаруживает немного позднее, в споре о возрасте Алисы. «Я думала, вы хотели спросить, сколько мне лет!» — воскликнула девочка. «Если бы я хотел, я бы так и спросил». И тут же выдает себя с головой, добавляя: «Если бы ты со мной посоветовалась, я бы тебе сказал: „Остановись на семи“, — но сейчас уже слишком поздно». Здесь есть нежелание примениться к реальности, приверженность раз установленным правилам, нетерпимость, ненависть к переменам, застойность, которые отличают этот тип сознания.
Можно проанализировать весь разговор фраза за фразой и найти в каждой реплике Шалтая-Болтая нечто типичное для третьеразрядного литературного критика. Но перейдем к концу главы, где разговор касается литературных тем. Здесь становится совершенно очевидным авторский замысел всей главы. После разговора о подарках к «дням нерождения» Шалтай-Болтай, как вы помните, восклицает: «Вот тебе и слава!» Алиса, конечно, не понимает этой реплики, в чем и признается, а Шалтай-Болтай с презрительной усмешкой бросает: «Конечно, не понимаешь и не поймешь, пока я тебе не объясню». С каждым шагом теперь сатира становится все менее завуалированной, пока не достигает зенита в его восклицании: «Непроницаемость! — вот что я сказал». Кто не знает этих созданий высшего порядка, которые, когда они пишут (как они полагают) литературно-критические работы, толкуют об «уровнях» и «намерениях», о «статике» и «динамике», об «объективных корреляциях», черт бы побрал их ученый жаргон! И вот Шалтай-Болтай, покачиваясь на высокой узкой стене, вопит в каком-то экстазе: «Непроницаемость!» Шалтай-Болтай — воплощение и символ всех этих критиков с их ученым жаргоном. Алиса, как всегда, говорит от лица всего здравомыслящего человечества, когда она задумчиво произносит: «Это не просто — вложить в одно слово столько смысла». Конечно, не просто, но Шалтай-Болтай со своей братией докучает нам неуместными вычурными терминами, в надежде создать видимость чрезвычайного глубокомыслия и не прилагая ни малейших умственных усилий.
В Америке есть один журнал, издающийся на благо самым элитарным умам, журнал, в котором любая статья пестрит устрашающими именами и претенциозными специальными терминами, почти ничего, а то и вовсе ничего не означающими. И если бы это от меня зависело, на каждой его странице было бы напечатано жирными черными буквами благословенное слово «Непроницаемость».
Но не менее выразителен и ответ Шалтая-Болтая на просьбу Алисы объяснить смысл стихотворения «Бармаглот». Тут уж он просто из кожи лезет, чтобы сделать все от него зависящее. «Давай-ка послушаем его, — восклицает Шалтай-Болтай. — Я могу объяснить все стихи, которые когда-либо были написаны, и большую часть тех, что пока еще не написаны». Конечно, может, как и вся эта братия! Они вечно объясняют стихи, вечно рукоприкладствуют, разнося в пух и прах своих ближних — поэтов.
Но что, собственно, означало упоминание тех стихов, которые «пока еще не написаны»? Мне кажется, это относится к сочинениям друзей этих критиков, членов маленьких литературных кружков. Ведь такие стихи не назовешь написанными, и только после того, как дружески расположенный критик объяснит их, они начинают существовать как самостоятельное литературное произведение.
И наконец, совершенно закономерный штрих, что Шалтай-Болтай сам пишет стихи. Уже один этот факт убедительно доказывает, что Льюис Кэрролл, внезапно постигнув образ грядущего, задумал эпизод с Шалтаем-Болтаем как сатирический. Спору нет, сами стихи лучше — хотя бы по форме — тех, которыми нас мучат молодые критики, но, вероятно, Кэрролл не мог даже в пародии спуститься ниже определенного уровня. Однако в стихотворении — если его можно назвать стихотворением, — прочитанном Шалтаем-Болтаем, есть такие приемы, которые даже слишком знакомы нынешним читателям поэзии. Резкость переходов, незавершенность, расплывчатость символики — да, все это очень знакомо. Такие строки, как