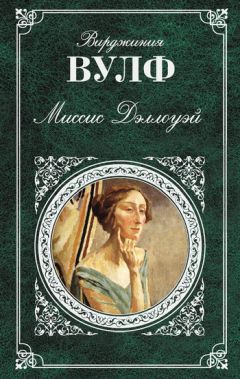– Сэндвичи… – сказала миссис Суизин, входя на кухню. Она не добавила к сэндвичам «Сэндс», это бы вышло бестактно. «Нельзя никогда обыгрывать, – мама учила, – чужие фамилии». Но Трикси – это имя же совсем не подходит, как Сэндс подходит к этой тощей, кислой, рыжей, колючей чистюле, которая пока еще ни разу шедевра не создала, что правда, то правда; зато уж и шпильку в суп не уронит. «Что за черт?» – рыкнул Барт, выуживая шпильку из супа, в старые времена, пятнадцать лет назад, до эры Сэндс, в эпоху Джессики Пук.
Миссис Сэндс принесла хлеб; миссис Суизин принесла бекон. Одна нарезала хлеб; другая бекон. Кухаркины руки строгали – раз-раз-раз. Тогда как Люси, обнимая каравай, держала нож лезвием вверх. Почему черствый хлеб, она рассуждала, режется легче, чем свежий? И вбок скользнула: закваска – алкоголь; брожение; опьянение; Бахус; и уже под пурпурными лампионами в италийском вертограде лежала, где леживала, бывало; а миссис Сэндс меж тем слушала, как часы тикают; как муха жужжит; за котом присматривала; и досадовала, по губам было видно, а вслух ведь не выскажешь, что на кухне морока лишняя от этой блажи – гирлянды в Сарае развешивать.
– Погода не подведет? – спросила миссис Суизин, с ножом наперевес. Они на кухне приноровились уже к старухиной придури.
– На то похоже, – ответила миссис Сэндс, остро глянув в кухонное окно.
– В прошлом году подвела, – сказала миссис Суизин. – Помните, что творилось – вдруг хлынуло и мы заносили стулья? – Она опять стала резать. Потом спросила про Билли, племянника миссис Сэндс, проходившего ученье у мясника.
– Ведет, как не положено малому, – сказала миссис Сэндс, – грубиянит хозяину.
– Ничего, все будет в порядке, – сказала миссис Суизин, имея в виду племянника, имея в виду сэндвич, который просто чудо как хорошо вышел, треугольненький, аккуратный.
– Мистер Джайлз, возможно, опоздает, – прибавила она и, довольная, положила свой сэндвич на блюдо.
Потому что муж Айзы, биржевой маклер, ехал из Лондона. А местный поезд, который подают к лондонскому, ходит шаляй-валяй, и даже если мистер Джайлз успеет в Лондоне на более ранний поезд, все равно ничего тут не рассчитаешь. А в таком случае… но каково в таком случае придется миссис Сэндс – люди опаздывают на поезда, а ей все дела побросай и толкись у плиты, чтобы еда была с пылу с жару – это только она сама знает.
– Ну вот! – сказала миссис Суизин, озирая сэндвичи, одни удачные, другие не очень. Ладно, несу их в Сарай.
А насчет лимонада – она знала без тени сомнения, что Джейн, кухонная девушка, его следом понесет.
Кэндиш задержался в столовой, чтоб поправить желтую розу. Желтые, белые, пунцовые – так он их расставил. Он любил цветы, любил их расставить, всадить острый зеленый листик, листик сердечком, чтобы ловко пришелся меж ними. Странно, как он любил цветы, притом, что картежник и пьяница. Вот все и готово – белизна, серебро, вилки, салфетки, и посредине ваза с разноцветными брызгами роз. И, все окинув последним взором, он удалился.
Две картины висели рядком напротив окна. В жизни они никогда не встречались – эта длинная дама и господин, держащий коня под уздцы. Дама была картина, даму Оливер купил, потому что ему приглянулась картина; господин же был предок. У него было имя, Он держал коня под уздцы. Он говорил художнику: «Если желаете снять с меня подобие, сударь, черт с вами, малюйте, когда распустятся на деревьях листочки». Распустились на деревьях листочки. Тогда он сказал: «Для Колина-то сыщется местечко, с Бастером вместе?» Колин был его знаменитый пес. Но место нашлось только для Бастера. Вот досада, он, кажется, говорил, но уже не художнику, что рядом не поместился Колин, которого он собирался похоронить у себя в ногах, в своем склепе, в году примерно 1750-м, да только этот стервец преподобный, как бишь его, согласия не дал.
Он был вечная тема для разговоров, предок. А дама была картина. В желтой робе, томно склонясь к колонне, с серебряной стрелою в руке, с пером в волосах, она поводила взглядом вверх, вниз, к прямизне от изгиба, сквозь зеленые прошвы и тень серебра, сквозь сумрак и розовость, к тишине. В столовой было пусто.
Пусто, пусто, пусто; тихо, тихо, тихо. Комната стала раковиной и пела о том, что было в довременье; и в самом центре дома стояла ваза, алебастровая, прохладная, гладкая, в себя вобравшая самую суть пустоты, тишины.
По ту сторону коридора открылась дверь. Один голос, другой, третий выплеснулись в коридор; хриплый – голос Барта; дряблый – Люси; и матовый голос Айзы. Голоса, налетая друг на друга, сталкиваясь, сшибаясь, долетали из коридора, обранивая клочья фраз: «…поезд опоздает»; «не остыло бы»; «мы не будем, нет, Кэндиш, мы не будем ждать».
Вылившись из библиотеки, голоса в коридоре запнулись. Наткнулись, видимо, на препятствие; на скалу. Неужели никак невозможно даже здесь, вдалеке от всего, побыть одним? Это была скала. В нее уперлись, потом ее обогнули. Досадно, да, но что поделать. Гости так гости. Да, немого досадно, но даже приятно было, выйдя из библиотеки, наткнуться на миссис Манрезу и незнакомого молодого человека – волосы цвета пакли, вытянутое лицо. Бежать было некуда; встреча была неизбежна. Их не ждали, не приглашали, да, но их сманил с шоссе тот же инстинкт, что сбивает в стадо овец и коров, и они пришли. Но у них с собою корзина еды. Вот.
– Просто не могли устоять, как увидели на указателе вашу фамилию, – распиналась миссис Манреза. – А это мой приятель, Уильям Додж. Собрались в одиночестве посидеть, в чистом поле. Ну и я говорю: почему бы нам не попросить у друзей дорогих – когда указатель увидела, – не попросить ли убежища? Место за столом – больше нам ничего не надо. Жратва у нас есть. И стаканы. Нам надо только… – общества, очевидно, слиться с себе подобными.
И она помахала рукой, на которой была перчатка, но под перчаткой перстни угадывались, помахала старому мистеру Оливеру.
Он низко склонился к ее руке; столетье назад он бы руку поцеловал. К потоку приветствий, протестов, извинений и снова приветствий подмешалась струйка молчанья, которую, разглядывая молодого человека, подбавила Айза. Конечно, он хорошего круга; по носкам и брюкам видно; интеллигентный – галстук в крапинку, расстегнутая жилетка; городской, кабинетный – такой нездоровый, глинистый цвет лица; страшно нервный, так задергался, когда его вдруг представили, и адски, кошмарно суетный – презирает щебет миссис Манрезы, а сам же с нею прикатил.
Айзу все это не очень грело, но – ей было любопытно. Миссис Манреза прибавила для порядка: «Он художник», Уильям Додж поправил: «Канцелярская крыса» – и что-то он промямлил насчет образования, не то про налоги, и она нащупала узел, так туго стянутый, что чуть не перекосилось и уж точно дергалось его лицо.
И они пошли к столу, и миссис Манреза буквально лопалась от восторга, что так ловко, палец о палец не ударив, сумела преодолеть небольшой общественный кризис – и вот вам, пожалуйста, – два лишних прибора на столе. Недаром она доверялась человеческой природе, верно? Все ведь мы из плоти и крови? И зачем огород городить, если все мы из плоти и крови под нашей кожей – мужчины и женщины! Но она предпочитала мужчин – это очень было заметно.
– А зачем тогда тебе эти перстни и эти ногти, эта просто обворожительная соломенная шляпка? – спрашивала Айза, молча адресуясь к миссис Манрезе, своим молчаньем внося, таким образом, существенный вклад в беседу. Шляпка, перстни, ногти, как розы пунцовые, гладкие, как ракушки, были выставлены на обозрение. Но не ее жизнь. Тут только ошметки достались им всем – за исключением, видимо, Уильяма Доджа, которого она называла Биллом на публике, – знак, наверно, того, что он знал побольше их всех. Кое-что из того, что он знал, – она бродит ночами в шелковой пижаме по саду, у нее громкоговоритель, она слушает джаз, есть бар, – они тоже знали, конечно. Но ничего интимного; никаких прямых биографических фактов.
Она родилась, но это только сплетни, в Тасмании; ее дед был вывезен за какой-то викторианский скандал; неблаговидное что-то; присвоение казенных средств, что ли? Но повесть, в тот единственный раз, когда ее слышала Айза, не двинулась дальше этого «вывезен», ибо муж общительной дамы – миссис Бленкоу, на мызе, – придрался к неточности и сказал, что скорей он был «выслан», но и это не то, слово вертится на языке, никак не поймать. И рассказ сразу как-то увял. Иногда она ссылалась на какого-то своего дядю, епископа. Но он, кажется, только в колониях считался епископом. Очень уж легко все прощают и забывают в этих колониях. Еще говорили, что ее алмазы-рубины собственными руками выкопал из-под земли ее «муж», но только не Ралф Манреза. Ралф, еврей, стал выглядеть типичнейшим сельским аристократом, когда ведущие городские компании – это точно – его буквально озолотили; и у них нет детей. Но когда на троне Георг VI[12], как-то немодно, пошло, траченными молью мехами попахивает это занятие, и камеями, бисером, писчей бумагой с черным обрезом, – так вот рыться в чужом грязном белье, да?