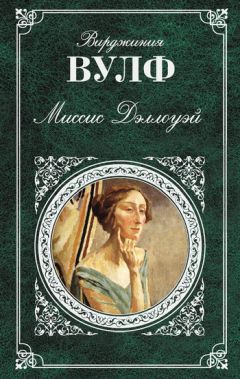– Все что мне нужно, – и миссис Манреза состроила глазки Кэндишу, будто он настоящий мужчина, не чучело, – так это штопор.
У нее бутылка шампанского, а штопора нет.
– Видишь, Билл, – она сказала, вывернув большой палец (открывала бутылку), – эти портреты, а? Говорила я тебе, что получишь удовольствие?
Вульгарная, да, эти жесты, и вообще, явная брючница, и – так разрядиться для пикника! Но какое нужное, ценное, во всяком случае, свойство – ведь каждый, едва она рот откроет, сразу чувствует: «Вот, она сказала, а я – нет, и почему не я» – и, воспользовавшись брешью в декоруме, в которую хлынула свежесть, уже веселым дельфином кувыркается у ледокола в кильватере И она же восстановила для старого Бартоломью те пряные острова, его юность, не так ли?
– Я ему говорила, – теперь она уже Барту строила глазки, – что он и смотреть не захочет на наши вещи (которых у них буквально пруд пруди) после ваших. И я ему пообещала, что вы ему покажете эту… эту… – Тут вскипело шампанское, и она настояла, чтоб Барт себе первому наполнил бокал. – Ну, по чему еще вы, образованные господа, с ума-то сходите? Ну, арку? Нормандскую? Саксонскую? Кто тут у нас недавно из школы? Миссис Джайлз?
Теперь она глазки строила Изабелле, одаряя ее юностью; но, когда с женщинами разговаривала, она застилала взгляд, чтоб эти, участницы сговора, там чего лишнего не прочитали.
Так, гол за голом – шампанское, глазки – она выигрывала, утверждалась: дитя природы, вихрем ворвавшееся в эту… – она усмехалась тайком – тихую заводь; после Лондона просто комическую; но кое в чем и получше Лондона. И она предлагала им образцы своей жизни на пробу; немножечко сплетен; чушь сплошную; но она ни на что другое и не замахивалась; как в прошлый вторник сидела с таким-то, с таким-то; и после фамилии вдруг всплывало имя; вот уже вспархивало уменьшительное; и он сказал – кто я такая? мне все можно выложить! – и «по строгому секрету, мне бы не надо болтать» она все им выбалтывала. И они навостряли уши. Потом – легким жестом руки, будто швырнув за борт эту дурацкую, гадкую лондонскую жизнь, – бах! – она вскрикнула: «Вот! И что я перво-наперво делаю, когда сюда приезжаю?» Они выехали вчера вечером, катили по июньским лугам, с Биллом, само собой, парочкой, бросив Лондон, который вдруг просто осточертел, чтоб просто посидеть-пообедать. «Ну и что я делаю? Можно я скажу, да? Вы разрешаете, миссис Суизин? Ах, в этом доме все можно сказать. Я рассупониваюсь (уперла руки в боки – статная дама) и катаюсь по траве. Катаюсь! Вы не поверите…» И она от души расхохоталась. Наплевала на фигуру и почувствовала себя свободной!
Да, это правда, это без дураков, думала Айза. Конечно правда. И эта ее любовь к природе. Часто, когда Ралфа Манрезу не пускали дела, она одна сюда мчала; в потрепанной шляпе; учила деревенских женщин не мариновать и закатывать, нет; но как плести из цветной соломки миленькие такие корзиночки; им тоже надо от жизни получать удовольствие, она объяснила. Она сама, например, как ни пройдете мимо, услышите – напевает среди георгин: «Тра-ля-ля-ля!»
Нет, просто отличная тетка. Барт при ней даже помолодел. Поднимая бокал, уголком глаза он заметил белый промельк в саду. Кто-то прошел под окнами.
Судомойка, пока посуду не вынесли, остужала щеки у пруда с кувшинками.
Тут всегда были кувшинки, ветром посеянные, и плавали, красные, белые, на зеленых лиственных блюдцах. Вода за столетья осела в своей лохани и лежала теперь слоем в четыре-пять метров на илистой черной подушке. Под зеленой плитой ряски, застекленные в собственном царстве, плыли рыбы – золотые, в белую крапинку, черно-полосатые, серебряные. Молча проплывут по своему водному царству, замрут на синем отражении неба или бесшумно метнутся к краю, где дрожит трава и ложится на воду мохнатой кивающей тенью. Там, на водной панели, оставляют тоненькие следы пауки. Семечко упадет и уходит спиралью вниз; упадет навстречу своему отражению лепесток, сольется с ним, взбухнет, тонет. И тогда флотилия этих живых корабликов замрет; зависнет; во всем снаряженье; в броне; и скроется с волнистым взблеском.
Вот там, в самой середке, утопилась та леди. Десять лет назад осушали пруд и нашли берцовую кость. Правда, кость, к сожаленью, оказалась овцы, не леди. А не бывает у овец привидений, потому что нету душ у овец. Но, не сдавались слуги, ходит привидение, ходит; а привидение – чье ж, как не леди; которая утопилась от несчастной любви. И кто ж после этого пойдет ночью к пруду с кувшинками; нет, только сейчас, когда солнце светит и господа еще не встали из-за стола.
Утонул лепесток; судомойка побежала на кухню; Бартоломью отхлебнул свое вино. Он был счастлив, как мальчик; безответствен, как старик; странное, дивное ощущение. Пошарив в памяти, что бы такое сказать этой очаровательной даме, он брякнул первое, что пришло на ум; изложил историю про овечью берцовую кость. «Слугам, – он сказал, – нужны привидения». Судомойкам нужны леди, утопившиеся от несчастной любви.
– Ах, и мне, и мне! – крикнула миссис Манреза, дитя природы. Ни с того ни с сего стала важная, как сова. Да, когда Ралф был на войне, она знала, знала, – она говорила, для пущей убедительности отщипывая от хлеба кусочек, – что он не погиб, не то бы он ей явился, «где бы я ни была, чем бы ни занималась», – и она взмахнула руками, расплескивая с пальцев бриллиантовый блеск.
– Я этого не понимаю, – сказала миссис Суизин, покачав головой.
– Ну конечно, – миссис Манреза залилась смехом. – И никто из вас не поймет. Видите ли, я на уровне… – она выждала, пока ретируется Кэндиш, – ваших слуг. Я не такая взрослая, как вы все.
И нахохлилась, гордясь своей подростковостью. Придуривалась? Или нет? Струйка чувства в ней пробивалась сквозь ил. У них он выложен плитами мрамора. Для них овечья кость – это овечья кость, не останки бедной благородной утопленницы.
– Ну а вы к какому лагерю принадлежите? – Бартоломью повернулся к неизвестному юнцу. – Взрослых или не взрослых?
Изабелла открыла рот, в надежде, что он раскроет свой, дав ей шанс составить о нем впечатление. Но он только глаза таращил.
– Прошу прощенья, сэр? – произнес-таки наконец. Все на него уставились. – Я вот на портреты смотрел.
Портрет ни на кого не смотрел. Портрет их вел в тишину, по тропам молчания.
Миссис Суизин его нарушила.
– Миссис Манреза, хочу попросить вас об одном одолжении. Если вечером будет крайняя надобность, вы споете?
Вечером? Миссис Манреза пришла в ужас. Праздник! Она понятия не имела, что это сегодня! Неужели же они бы сюда сунулись, знай они, что это сегодня! И разумеется, опять начался перезвон. Айза слышала первый колокол; и второй; и третий – если дождь, будем в Сарае; если вёдро – на воле. Но что будет, дождь или вёдро? И все посмотрели в окно. И тут дверь отворилась. И Кэндиш возвестил, что мистер Джайлз приехали. Мистер Джайлз сию минуту сойдут к столу.
Джайлз приехал. Увидел у входа большой серебристый автомобиль с вензелем «Р.М.», так выкрученным, что издали сходил за корону. Гости, он заключил, припарковываясь сзади; и поднялся к себе переодеться. Призрак условностей вынырнул из глубин, как под давлением чувства выступают слезы или румянец; так этот автомобиль надавил на какую-то клавишу. Надо переодеться. И в столовую он вошел, одевшись, как на крикет – белые штаны, синий пиджак с медными пуговицами; хотя сам же бесился. Разве еще сегодня, в поезде, он не прочитал в газете, что шестнадцать человек убиты, остальные захвачены в плен прямо там, за бухтой, на плоской земле, их отделяющей от континента? И вот вам, пожалуйста, – переоделся. А все из-за тети Люси – увидела его, ручкой машет – из-за нее он переоделся. Он на нее повесил свою досаду, как вешают пальто на крюк, бездумно, привычно. Тете Люси – ей-то что, дуре; вечно, с тех пор как после колледжа он выбрал свою лямку, она высказывает недоумение по поводу некоторых, жизнь кладущих на то, чтоб покупать-продавать – плуги? или это бисер? или акции? – дикарям, которым надо зачем-то – будто они и голые не хороши? – одеваться и жить, как живут англичане. Легкомысленный, злой даже, взгляд на проблему, которая – у него же ни талантов особых не было, ни капитала, и он без памяти влюбился в свою жену – он ей кивнул через стол – терзает его уже десять лет. Будь у него выбор – тоже небось занялся бы сельским хозяйством. Но не было выбора. И так – одно цепляется за другое; все вместе на тебя давит, плющит; держит, как рыбу в воде. И он приехал на выходные и переоделся к обеду.
– Добрый день, – сказал он всем за столом; и кивнул незнакомому гостю; настроился против него и занялся своим палтусом.
Он был совершенно, ну совершенно во вкусе миссис Манрезы. Волосы вьются; подбородок не скошенный, как с подбородками часто, нет, абсолютно твердый; нос прямой, пусть чуточку и коротковат; глаза, при таких волосах, конечно же, голубые; и, наконец, для полноты картины, что-то такое дикое, неукротимое было у него во взгляде, что миссис Манреза даже в свои сорок пять подготовила старые орудия к бою.