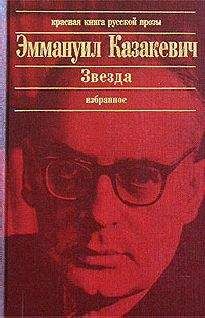Вот такие и разные другие мысли услужливо лезли со всех сторон, чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль.
Сидя в оцепенении на полу, он не сразу заметил другого человека, который лежал в самой глубине землянки и крепко спал. Только тогда, когда человек задвигался и приподнялся, Огарков обратил на него внимание.
Человек этот был в гражданской одежде. Оказалось, что он приговорен к расстрелу за дезертирство. Во время отступления он в какой-то деревне переоделся и ушел в сторону, но его задержали.
То был пожилой, волосатый, мрачный и грязный человек. Он курил толстые махорочные скрутки и без конца тупо повторял:
– А мне какое дело?…
– Почему вы так? – спросил Огарков.
– Не хочу воевать,– ответил приговоренный.– Я баптист, понимаешь? – И добавил: – Пусть немец приходит. Все одно.
– Как же так «все одно»? – ужаснулся Огарков.– Что вы говорите? Ведь они фашисты! Просто странно, что вы это говорите! Еще русский человек…
– А мне какое дело?…– сказал приговоренный.
«Сумасшедший он, что ли?» – подумал Огарков.
Вдруг глазки приговоренного по-звериному хитро засверкали, словно из глубин этого обезьяньего волосатого черепа с трудом и натугой вылущилась наконец одна человеческая мысль, и он спросил:
– А ты-то, советскай, за что сюды попал?
Огарков растерялся. Сила и убедительность этого вопроса потрясли его.
Приговоренным, не дождавшись ответа, хрипло рассмеялся, потом быстро подполз к Огаркову и зашептал:
– Всех нас перебьют, – коли не немцы, то энти…
Тут Огаркова вызвали в трибунал. Стоя перед столом, он слушал слова приговора будто из далекой дали, и только последняя, заключительная фраза на секунду вывела его из состояния почти полного небытия. Фраза эта гласила:
«Приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Огаркова Сергея Леонидовича к высшей мере наказания – расстрелу».
Перед тем как отвести осужденного обратно в землянку, один из конвоиров, коренастый и молчаливый казах, сорвал с его петлиц кубики – знаки лейтенантского звания – и закинул их далеко в картофельные кусты.
Баптиста в землянке уже не было. Огарков сел на свою шинель, и долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку. Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова. Сквозь нее было видно, но она спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли.
Но сколько ни думай о чем угодно и, в сущности, ни о чем – все эти мысли завершаются здесь, в землянке, и все равно ставится во всю гигантскую, до неба, высоту вопрос: что ты делаешь тут?
Все стало ясно, когда вспомнилась мать. Мать не должна была проникнуть за перегородку, но как только она проникла, все сразу стало ясно. Перегородка обрушилась. Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне,– не о том, что он погиб, а о том, как он погиб,– вот что было важнее всего.
Он так зарыдал, что часовой, стоявший у входа в землянку, вздрогнул.
– Пустите меня! – крикнул Огарков вне себя.– Я должен им все сказать!
Он стал лихорадочно обдумывать, что такое ему нужно сказать своим судьям. Ведь он ничего им не сказал. Он ведь только бормотал что-то. Ведь нужно было ясно и понятно объяснить им, что он, Сережа Огарков, готов все отдать всем. И что он именно Сережа Огарков, а не кто-нибудь другой, посторонний. Они ведь не могут не понять, что это не то, что должно быть. Он потребует, чтобы его выслушали, не так просто, в какой-то избе, а по-настоящему.
Они не имеют права не выполнить его требование. Здесь Советский Союз, где каждый человек имеет право быть выслушанным.
Лицо Огаркова просветлело.
Пусть они наконец запросят его полк.
В конце концов он не офицер связи, а начхим полка. Пусть спросят у майора Габидуллина, у Кузина, у Дубового, у Вали.
Вспомнив свой полк, Огарков совсем ободрился. И мысль о том, что ни Вали, ни Кузина, ни Дубового, ни майора Габидуллина уже, может быть, нет в живых, подкралась к нему как-то незаметно и ошеломила его. Так о них, значит, именно о них и говорил майор из оперативного отдела, сказав: «Мы потеряли эту дивизию».
Только теперь эти, как казалось ему раньше, отвлеченные слова наполнились понятным и страшным содержанием. «Значит, это я убил вас, мои дорогие?» – шепотом спросил Огарков у медленно вставшей перед его глазами вереницы лиц и имен. Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет,– должно произойти, потому что это справедливо.
Солдат Джурабаев – тот самый, что сорвал с петлиц Огаркова кубики,– стоял на часах возле землянки осужденного и приглядывался к окружающему миру не просто так, а с точки зрения часового. Большая курица с цыплятами, гуляющая неподалеку, его не касалась. Вороне, пронзительно орущей на верхушке тополя, не мешало бы и помолчать, находясь так близко к объекту охраны. Ветер, шуршащий в траве, несколько раз привлекал его внимание, но покуда это был только ветер и за шуршанием ничего не крылось.
Он прислушался к «объекту» – там было тихо. Осужденный не подавал признаков жизни.
Джурабаев был один из тех исполнительных, до щепетильности точных солдат, которые иногда кажутся туповатыми. Он попал в армейскую роту охраны недавно, после легкого ранения, и считал это неожиданным счастьем, потому что жизнь при штабе армии была куда более легкой и безопасной, нежели жизнь на передовой. Однако он помнил об оставшихся на переднем крае товарищах, которые были ничем не хуже его,– поэтому он не мог считать справедливым постигшее его счастье и старался компенсировать свою совесть беззаветной преданностью службе. Службе с большой буквы, выполняя устав до мельчайших тонкостей, не давая себе поблажек ни в чем.
Его неподкупность и молчаливая служебная исполнительность вошли у солдат в поговорку. Внешность его была под стать душе: он был приземист, сложен крепко и основательно, круглолиц и узкоглаз. Обладая силой буйвола, он был с товарищами кроток и обходителен той свободной и временами тонкой обходительностью, которая свойственна восточным людям и, может быть, берет свое начало в дровней цивилизации Китая.
Он вполне прилично знал русский язык и любил читать русские книги – все равно какие: стихи так стихи, брошюры так брошюры, а попадется старая газета – так и газету. Однако он не ладил с грамматикой и, разговаривая, почти все слова склонял невпопад. Зная эту свою слабость, он был молчалив из самолюбия.
Заходило солнце, и Джурабаев определил, что смена ему будет приблизительно через час. Действительно, вскоре послышались шаги, и Джурабаев крикнул:
– Кто идет?
То не была смена. Подошедшую к землянке девушку Джурабаев несколько раз видел в трибунале и понимал, что онa там служит. Но так как девушка шла одна, без разводящего, он не допустил ее близко.
– Товарищ часовой,– сказала она,– мне нужно вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.
– Разводящий,– сказал Джурабаев.
– Да,– возразила секретарша,– но разводящий ведь при штабе в соседней станице…
– Разводящий,– повторил Джурабаев.
Секретарша стояла в нерешительности. Разводящий приезжает сюда на повозке для смены часовых не чаще одного раза в четыре часа, так как солдат в роте мало.
– Разве вы меня не знаете? – спросила она.
– Без разводящий нэльзя,– сказал Джурабаев, и она поняла, что спорить бесполезно.
Она уже собралась уходить, когда в небе раздался знакомый зловещий гул моторов. «Воздух!» – послышались крики. Земля затрепетала от разрывов. Удары следовали один за другим с адской быстротой, словно кто-то огромный быстро-быстро хлопал по земле гигантскими железными ладонями все ближе и ближе.
Девушка припала к земле, и так как единственным убежищем здесь могла служить землянка с осужденным, девушка поползла к ней, но ее остановил тихий и решительный возглас:
– Стой!
Она подняла глаза и, встретившись со взглядом часового, сочла за лучшее остаться на месте.
Самолеты, отбомбившись, вразброд улетали обратно на запад. Девушка поднялась, отряхнулась, негодующе посмотрела на невозмутимое лицо часового и пошла в деревню. На полдороге она встретила разводящего, который ехал к Джурабаеву на повозке. Секретарша уселась на повозку и поехала обратно к землянке, горько жалуясь на Джурабаева. Разводящий усмехнулся:
– Этот у нас такой… Родную мать не пустит.
Она вручила осужденному приговор. Осужденный, против ожидания, был спокоен, хотя и очень бледен. За несколько часов он невероятно осунулся и даже чуть постарел, вернее – повзрослел. Когда он расписывался в получении приговора, его рука дрожала самую малость. Девушка вышла из землянки с тяжелым чувством.