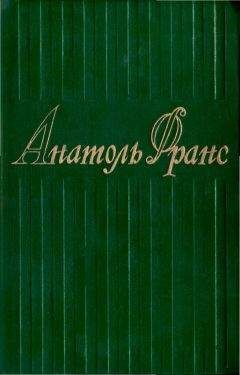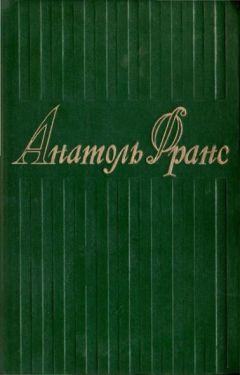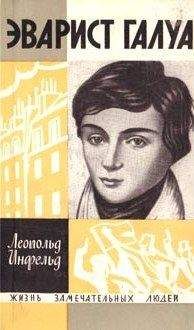— Отца нет дома, — сказала она художнику. — Подождите немного: он скоро вернется.
Смуглые маленькие ручки быстро продевали иглу сквозь тонкий батист.
— Нравится вам этот рисунок, господин Гамлен?
Гамлен не умел притворяться, да и любовь, придавая ему смелость, побуждала его быть откровенным.
— Вы вышиваете очень искусно, гражданка, но, если вам угодно выслушать мое мнение, узор, который вам сделали, недостаточно прост, недостаточно строг и отзывает вычурным вкусом, слишком долго господствовавшим во Франции в искусстве отделки тканей, мебели, панелей. Эти банты, эти гирлянды напоминают бессодержательный, пошловатый стиль, пользовавшийся успехом при последнем тиране. Вкус возрождается.
Увы! мы начинаем издалека. В эпоху гнусного Людовика XV в декоративное искусство проникли китайские влияния. Комоды делали пузатыми, с изогнутыми, нелепыми ручками, и годны они лишь на то, чтобы топить ими печи патриотов. Прекрасна только простота. Необходимо вернуться к древности. Давид делает рисунки кроватей и кресел, заимствуя мотивы с этрусских ваз и фресок Геркуланума.
— Я видела эти кровати и кресла, — подхватила Элоди, — они восхитительны! Скоро на другую мебель никто и смотреть не захочет. Как и вы, я обожаю древность.
— Ну так вот, гражданка, — продолжал Эварист, — если бы вы украсили свой шарф греческим орнаментом, листьями плюща, змеями или скрещенными стрелами, он был бы достоин спартанки… и вас. Вы, впрочем, могли бы сохранить и этот узор, упростив его и сделав более прямолинейным.
Она спросила, что, по его мнению, следовало бы отбросить.
Он наклонился над шарфом: локоны Элоди коснулись его щеки. Руки их встречались, перебирая батист, их дыхание смешалось. Эварист испытывал в эту минуту бесконечную радость, но, чувствуя губы Элоди так близко от своих губ, он побоялся оскорбить девушку и быстро отстранился.
Гражданка Блез любила Эвариста Гамлена. Она находила великолепными его большие горящие глаза, его красивое продолговатое лицо, его бледность, густые черные волосы, разобранные на пробор и волнами падавшие на плечи, его важную осанку, холодный вид, суровость его обращения, уверенную речь, свободную от всякой лести. И так как она любила его, ей казалось, что он обладает талантом великого художника, который рано или поздно проявится в чудесных произведениях искусства и прославит его имя. Мысль об этом усиливала ее любовь. Гражданка Блез не была поклонницей мужской скромности: ее нравственное чувство нисколько не было бы задето, если бы мужчина, уступив голосу страсти, удовлетворил свои желания. Она любила целомудренного Эвариста; она любила его вовсе не за целомудрие, но тем не менее видела в этом известное преимущество: с ним она никогда не узнала бы ни ревности, ни подозрений, и ей не пришлось бы опасаться соперниц.
Однако в эту минуту она находила, что он слишком сдержан. Если Расинова Ариция, влюбленная в Ипполита, восхищалась суровой добродетелью юного героя, она все же не теряла надежды восторжествовать и пришла бы в отчаяние от строгости нравов, окажись Ипполит более стойким. И как только представился случай, она почти призналась ему в любви, чтобы вырвать ответное признание. Подобно нежной Ариции, гражданка Блез была недалека от мысли, что в любви женщина должна брать на себя почин. «Самые любящие, — думала она, — вместе с тем и самые робкие: они нуждаются в поддержке и поощрении. Их наивность так велика, что женщина может пойти очень далеко навстречу мужчине, а он и не заметит этого, если только ему оставить иллюзию, будто он смело повел атаку и одержал славную победу». В конечном исходе дела она нисколько не сомневалась, с тех пор как узнала наверняка (на этот счет у нее не было никаких сомнений), что Эварист, пока революция не превратила его в героя, любил, как любят все смертные, одну женщину, убогое создание, привратницу Академии.
Элоди, которую никак нельзя было назвать простушкой, различала несколько видов любви. Чувство, внушенное ей Эваристом, было достаточно глубоко, чтобы серьезно задуматься над вопросом о браке. Она охотно вышла бы за него замуж, но опасалась, что отец не согласится на союз единственной дочери с бедным и безвестным живописцем. У Гамлена не было ничего, торговец же эстампами был крупным денежным воротилой. «Амур-Художник» приносил ему немало дохода, биржевая игра — еще больше, а в последнее время он вступил в компанию с подрядчиком, поставлявшим в кавалерийские части камыш, вместо сена, и подмоченный овес. Наконец сын ножевщика с улицы Сен-Доминик был совсем незначительным человеком по сравнению с издателем эстампов, известным всей Европе, находившимся в родстве с Блезо, Базанами, Дидо, бывавшим запросто у граждан Сен-Пьера и Флориана. Не то чтобы Элоди как послушной дочери представлялось необходимым, устраивая свою судьбу, считаться с волею отца, — Жан Блез, человек алчный, легкомысленный, большой волокита и большой делец, рано овдовев, никогда не уделял ей особенного внимания; с детства он предоставил ей полную свободу, не навязывал своих советов, дружбы и не только не наблюдал за поведением дочери, а, напротив, старался ничего не замечать, хотя, в качестве знатока женщин, высоко ценил ее пылкий темперамент и умение пленять сердца — в своем роде более могущественное орудие, чем хорошенькое лицо. Слишком любвеобильная натура, чтобы беречь себя, слишком рассудительная, чтобы себя погубить, благоразумная даже в своих безумствах, она, принося дань страсти, никогда не забывала требований приличия. Отец был ей чрезвычайно благодарен за эту осторожность, и так как она унаследовала от него коммерческие способности и дух предприимчивости, он не интересовался таинственными причинами, удерживавшими от брака вполне созревшую девушку, и ничего не имел против того, что Элоди оставалась дома, где она стоила экономки и четырех приказчиков. В двадцать семь лет она сознавала себя достаточно взрослой и опытной, чтобы самой устраивать свою жизнь, и не видела никакой нужды спрашивать совета или следовать воле отца, — молодого, легкомысленного и рассеянного. Однако стать женою Гамлена она могла бы лишь в том случае, если бы господин Блез устроил судьбу своего бедного зятя, сделал его участником фирмы, обеспечил работой, как обеспечивал уже многих художников, наконец дал бы ему тем или иным способом средства к существованию; но она считала невозможным, чтобы отец предложил молодому человеку такую поддержку и чтобы тот согласился принять ее: слишком уж мало симпатии питали они друг к другу.
Обстоятельство это ставило в крайне затруднительное положение мягкосердечную и умную Элоди. Ее ничуть не пугала мысль соединиться тайными узами со своим возлюбленным, призвав творца природы в качестве единственного свидетеля их взаимной верности. Она, со своими взглядами на жизнь, не находила ничего предосудительного в таком союзе, вполне осуществимом при той свободе, которой она пользовалась: с честным и добродетельным Эваристом он был бы вполне прочен; но Гамлен с трудом добывал себе средства к существованию и должен был еще содержать старуху-мать: при такой бедности в сердце у него, по-видимому, не оставалось места для любви, даже самой простой. К тому же Эварист еще не объяснился ей, ни словом не обмолвился о своих намерениях. Гражданка Блез, однако, надеялась, что ей скоро удастся вызвать его на признание.
— Гражданин Эварист, — сказала Элоди, разом прервав ход своих мыслей и работу, — этот шарф придется мне по вкусу только в том случае, если он придется по вкусу и вам. Нарисуйте мне, прошу вас, узор. А пока я, как Пенелопа, распорю то, что сделала без вас.
— Хорошо, гражданка, — ответил он с мрачным одушевлением. — Я нарисую вам меч Гармодия: шпагу, перевитую гирляндой.
Достав карандаш, он принялся набрасывать орнамент из мечей и цветов, в строгом, суровом стиле, который он так любил. И в то же время он излагал свои взгляды на искусство.
— Духовно переродившиеся французы, — говорил он, — должны отказаться от рабского наследия: от дурного вкуса, дурной формы, дурного рисунка. Ватто, Буше, Фрагонар работали на тиранов и на рабов. В их произведениях нет чувства подлинного стиля, чистоты линий, нет ни естественности, ни правды. Маски, куклы, тряпки, кривлянье! Потомство с презрением отнесется к их легкомысленной мазне. Через сто лет картины Ватто, всеми забытые, истлеют на чердаках, в 1893 году ученики художественных школ покроют своими набросками полотна Буше. Давид указал нам новые пути: он приближается к искусству древности, но он еще недостаточно прост, недостаточно велик, недостаточно строг. Нашим живописцам надо еще многому учиться на фресках Геркуланума, па римских барельефах, на этрусских вазах.
Он долго ещё говорил об античной красоте, затем возвратился к Фрагонару, которого ненавидел всей душой.
— Вы его знаете, гражданка? Элоди утвердительно кивнула головой.