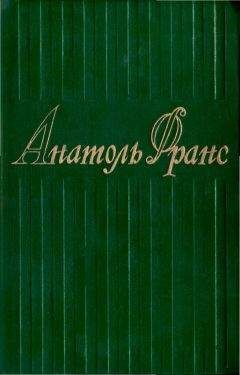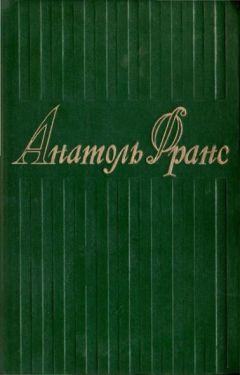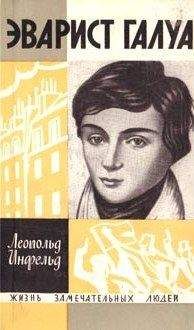Сгорая от нетерпения поскорее привести в исполнение свой замысел, он крупными шагами направился на Скобяную набережную, где над лавкой стекольщика жил Демаи.
Вход был через лавку. Жена стекольщика предупредила Гамлена, что гражданина Демаи нет дома, чем не очень удивила художника, так как он знал своего приятеля за человека непоседливого и легкомысленного и поражался, как это, работая лишь урывками, Демаи гравировал так много и так искусно. Гам-лен решил подождать его минутку. Жена стекольщика предложила ему стул. Она была мрачно настроена и стала жаловаться на дела, которые шли из рук вон плохо, хотя можно было предполагать, что революция, разбивая столько оконных стекол, обогатит стекольщиков.
Смеркалось. Отказавшись от мысли дождаться товарища, Гамлен простился с женой стекольщика. Проходя по Новому мосту, он увидел на набережной Морфондю конный отряд национальных гвардейцев, которые, бряцая оружием, расталкивая толпу, с факелами в руках конвоировали телегу, медленно влекшую на гильотину человека, имени которого никто не знал, — бывшего дворянина, первого, осужденного новым Революционным трибуналом. Между треуголками гвардейцев смутно виднелась его фигура: он сидел лицом к задку телеги, руки были связаны за спиной, обнаженная голова беспомощно болталась. Рядом с ним стоял палач, опершись рукой о боковую стенку повозки. . Прохожие, остановившись, высказывали предположение, что это, вероятно, какой-нибудь спекулянт, моривший голодом народ, и смотрели равнодушно' на осужденного. Гамлен, подойдя поближе, увидел среди зевак Демаи: он старался выбраться из толпы и перебежать дорогу. Эварист окликнул его и дотронулся рукой до его плеча. Демаи обернулся. Это был молодой человек, красивый и сильный. В свое время про него говорили в Академии, что у него голова Вакха на торсе Геракла. Приятели звали его «Барбару» — за сходство с этим народным представителем.
— Пойдем, — обратился к нему Гамлен, — мне надо поговорить с тобой о важном деле.
— Оставь меня в покое! — раздраженно ответил Демаи.
Выжидая удобный момент, чтобы протиснуться сквозь толпу, он обронил несколько невнятных слов:
— Я шел следом за божественной женщиной… Соломенная шляпка… золотистые волосы, распущенные вдоль плеч… Вероятно, какая-нибудь модистка… Проклятая телега разъединила нас… Она успела пройти вперед… Она уже в конце моста!
Гамлен попытался удержать его за кафтан, клянясь, что дело очень важное.
Но Демаи уже пробирался между лошадьми, гвардейцами, саблями и факелами, стремясь нагнать свою модистку.
Было десять часов утра. Апрельское солнце заливало светом нежную зелень деревьев. Освеженный ночной грозою воздух был полон сладостной истомы. Изредка всадник, проскакав по Вдовьей аллее, нарушал безмолвие уединенного уголка. В конце тенистой аллеи, напротив хижины, носившей название «Лилльская Красавица», Эварист, сидя на деревянной скамейке, поджидал Элоди. С того дня, как их пальцы встретились на батистовом шарфе и дыхание смешалось, он не был ни разу в «Амуре-Художнике». Целую неделю гордый стоицизм
и все возраставшая робость удерживали его вдали от Элоди. Он отправил ей пылкое письмо, мрачное и серьезное, в котором, излагая причины своего недовольства гражданином Блезом, но умалчивая о своей любви и скрывая скорбь, заявлял о принятом им решении не переступать порога лавки и, по-видимому, собирался сдержать слово с твердостью, которая вовсе не улыбалась влюбленной девушке.
Обладая совсем противоположным характером, Элоди, ни за что не желавшая поступаться тем, что она считала своим добром, сразу стала раздумывать, каким способом вернуть себе друга сердца. Сначала она намеревалась пойти прямо к нему в мастерскую, на Тионвилльскую площадь. Но, зная, что он отличается грустным нравом и, судя по письму, сильно раздражен, и опасаясь, как бы он не перенес на нее злобы, которую питал к отцу, и не стал избегать ее в дальнейшем, она решила, что лучше назначить ему сентиментальное и романтическое свидание, от которого он никак не мог уклониться и которое даст возможность переубедить его и понравиться ему, ибо уединение поможет ей очаровать и покорить его.
В эту эпоху во всех английских парках, во всех модных местах гуляний по чертежам ученых архитекторов были сооружены хижины, удовлетворявшие склонности горожан к сельской жизни. Хижина «Лилльская Красавица», арендованная продавцом лимонада, упиралась одной из своих якобы ветхих стен в искусственные развалины старинной башни, соединяя таким образом прелесть сельского ландшафта с меланхолией руин. Очевидно, считая, что для чувствительных сердец еще недостаточно хижины и разрушенной башни, продавец лимонада соорудил под ивой могильный холм и водрузил на нем колонну с погребальной урной, украшенную надписью «Клеониса своему верному Азору». Хижины, развалины, гробницы! Накануне своей гибели аристократия воздвигала в наследственных парках эти символы нищеты, уничтожения и смерти. А теперь горожане-патриоты с удовольствием пили, плясали, предавались любви в искусственных хижинах, в тени искусственных развалин искусственных монастырей, среди искусственных гробниц, ибо и те и другие были поклонниками природы, учениками Жан-Жака, и те и другие одинаково обладали чувствительными, расположенными к мечтательности сердцами.
Явившись на свидание ранее назначенного часа, Эварист стал ожидать, измеряя время, как маятником, биением собственного сердца. Прошел патруль, ведя куда-то арестованных. Спустя десять минут женщина, вся в розовом, с букетом в руке, как этого требовала мода, проскользнула в хижину в сопровождении кавалера в треуголке, красном фраке, полосатом жилете и полосатых панталонах; оба до того были похожи на прежних щеголей, что поневоле приходилось согласиться с гражданином Блезом, утверждавшим, будто у людей есть такие свойства, которых не в состоянии изменить никакая революция.
Спустя еще несколько минут старуха, пришедшая из Рюэйля или Сен-Клу, держа в руках цилиндрическую ярко размалеванную коробку, уселась на скамью, на которой ожидал Гамлен. Коробку, крышка которой была снабжена рулеткой со стрелой для гадания, женщина поставила перед собой. Она предлагала ребятам, игравшим в саду, попытать счастья. Торговала она печеньем, называвшимся прежде «облатками», а теперь переименованным в «утехи»; потому ли, что традиционный термин «облатка» наводил на докучливую мысль о евхаристии и христианском долге, потому ли, что всем надоело старое название, но «облатки» назывались тогда «утехами».
Старуха отерла концом передника пот со лба и разразилась жалобами, обращаясь к небу и обвиняя бога в несправедливости за то, что его созданиям приходится так тяжело. Ее муж держал кабачок в Сен-Клу, на берегу реки, а она ежедневно ходила по Елисейским полям со своей трещоткой, выкликая: «Утех, кому утех, сударыни!» И все-таки они не могли прокормить себя на старости лет своими трудами.
Видя, что сосед по скамейке готов пожалеть ее, она принялась обстоятельно излагать причину своих несчастий. Виной всему была республика, которая, разорив богачей, вырвала у бедняков последний кусок хлеба изо рта. Нечего и надеяться на лучшее. Напротив, судя по многим признакам, дела пойдут все хуже и хуже. В Нантере женщина родила ребенка с головой гадюки; в Рюэйле молния ударила в церковь и расплавила крест на колокольне; в Шовильском лесу видели оборотня. Люди в масках отравляли источники и разбрасывали порошки, распространявшие заразу…
Эварист увидел Элоди, выходившую из коляски. Он кинулся ей навстречу. Глаза молодой женщины блестели в прозрачной тени соломенной шляпы; на губах, пунцовых, как гвоздики, которые она держала в руке, играла улыбка. Черный шелковый шарф, перекрещивавшийся на груди, сзади был завязан бантом. Желтое платье подчеркивало быстрые движения колен и открывало ноги в туфельках без каблуков. Бедра не были стянуты, так как революция освободила стан гражданок от корсета; однако юбка, вздувавшаяся еще на боках, скрадывала формы, преувеличивая их и скрывая под своею пышностью подлинные очертания фигуры.
Он хотел заговорить, но не находил слов и упрекал себя за смущение, не зная, что Элоди оно было приятнее самых любезных речей. От ее внимания также не ускользнуло — и она сочла это хорошим признаком, — что галстук у него был повязан тщательнее обыкновенного. Она протянула Эваристу руку.
— Я хотела повидать вас, — сказала она, — побеседовать с вами. На ваше письмо я не ответила: оно мне не понравилось; я не узнала в нем вас. Будь оно естественнее, оно было бы любезнее. Я умалила бы достоинства вашего характера и вашего ума, если бы в самом деле поверила, что вы не желаете больше приходить на улицу Оноре только потому, что слегка повздорили о политике с человеком, гораздо старше вас. Будьте покойны, вам нечего опасаться дурного приема со стороны отца, когда вы снова явитесь к нам. Вы не знаете его: он не помнит ни того, что сам сказал, ни того, что вы ответили. Я вовсе не утверждаю, что между вами обоими существует большая симпатия, но он не злопамятен. Говорю вам откровенно: он не слишком интересуется ни вами… ни мной… Он поглощен своими делами и развлечениями.