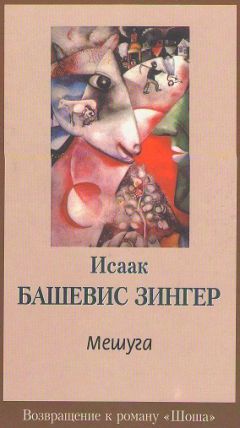С госпожой Блох и с Машей Герман познакомился в Германии. Маша была уже замужем за доктором Леоном Торчинером, который не то открыл какой-то гормон или витамин, не то участвовал в его исследовании. Он выдавал себя за ученого, но проводил дни и ночи напролет за игрой в карты с бандой контрабандистов. Леон говорил на вычурном польском и любил упоминать университеты и профессоров, с которыми сотрудничал. Он жил на деньги «Джойнта»[19] и на Машин скудный доход, который она получала, латая и перешивая одежду, — Маша закончила курсы кройки и шитья.
Маша, Шифра-Пуа и Леон Торчинер уехали в Америку раньше Германа. К тому времени, когда в Нью-Йорке он снова встретился с Машей, она уже разошлась с Леоном Торчинером, который не открывал никаких гормонов и витаминов и даже не был доктором. По Машиным рассказам, он вскоре стал жиголо, альфонсом у одной пожилой особы, вдовы богатого торговца недвижимостью. Еще в Германии Герман и Маша поняли, что полюбили друг друга. Оба они надеялись на встречу здесь, в Нью-Йорке…
Теперь Герману надо было пересесть на станции Юнион-сквер и доехать до Двадцать Третьей улицы. Он проехал свою остановку и оказался на Тридцать Четвертой улице. Перейдя по лестнице на другую сторону платформы, он сел в поезд, идущий в Даунтаун. Задумавшись, он снова не вышел вовремя и проехал до Канал-стрит.
Путаница с линиями метро, перекладывание вещей с одного места на другое, плутание по улицам, привычка забывать о заказах, терять рукописи, книги и записные книжки — все это висело над Германом как проклятие. Он часто шарил по карманам. У него пропадали то перьевая ручка, то темные очки. Исчезала адресная книжка, забывался номер собственного телефона. Он покупал зонтик и тут же где-то оставлял его. Надевал пару калош, и они словно куда-то испарялись. Герман иногда подозревал, что домовые и злые духи подтрунивают над ним.
Наконец-то он доплелся до офиса, находившегося в одном из домов рабби Лемперта. Как только Герман переступил порог, зазвонил телефон. Герман поднял трубку, и рабби тут же принялся кричать на него тяжелым басом:
— Где вас черти носят? Вы должны были с утра быть здесь! Где моя речь для Атлантик-Сити? Вы забываете, что мне надо успеть ее просмотреть и все прочее. И зачем вы вообще поселились в квартире без телефона? Сколько раз я вам предлагал платить за ваш телефон. Если человек работает на меня, я должен иметь возможность ему позвонить, чтоб он не прятался в нору, как мышь. О, вы так и остались новичком! Тут вам Нью-Йорк, а не Цевкув. Америка — свободная страна, здесь не надо ни от кого прятаться. Вы же не фальшивомонетчик или черт знает кто! Говорю вам сегодня в последний раз: поставьте у себя дома телефон или нашему сотрудничеству конец. Я скоро приеду. Мне надо с вами поговорить. Ждите!
Рабби Лемперт повесил трубку. Герман принялся быстро писать мелким почерком. «Что теперь делать? — бормотал он. — Будет конфуз!» Когда Герман познакомился с рабби, он не признался ему в том, что живет с польской крестьянкой. Он рассказал, что он холостяк и снимает комнату у своего земляка, бедного портного, у которого нет телефона. Телефон в квартире Германа в Бруклине был зарегистрирован не на его имя, а на имя Ядвиги Прач.
Сколько раз рабби Лемперт выказывал желание посетить комнату Германа у бедняги-земляка! Он с удовольствием заехал бы на своем «кадиллаке» в бедный район, чтобы произвести впечатление своим обликом и дорогим костюмом. Рабби любил совершать благодеяния: находить работу тому, кто в ней нуждался, писать рекомендательные письма в благотворительные учреждения. Но Герман всякий раз отговаривал его от визита, объясняя, что его земляк не любит гостей, что он не просто стеснителен, но повредился умом в лагерях и может оскорбить пришедшего, даже не пустить его на порог. Герман совсем отбил у раввина охоту приехать в гости, когда мимоходом упомянул, будто жена земляка прихрамывает, и у семейной пары нет детей. Раввину нравились семьи, в которых были дочери. Больные старики вызывали у него неприязнь.
Рабби часто говорил, что Герману пора съезжать с этой квартиры. Он пытался найти Герману невесту и предложил ему квартиру в одном из своих домов. На это Герман отвечал, что этот земляк спас ему жизнь в Цевкуве и что он нуждается в тех нескольких долларах, которые Герман платит ему за комнату. Одна ложь влекла за собой другую. Рабби произносил речи и писал статьи, направленные против смешанных браков. Герман не раз затрагивал эту тему в своих текстах для него. Он и сам был противником ассимиляции и смешения с врагами Израиля…
«Как же это можно объяснить? — подумал Герман и пробормотал: — Лев йодеа морас нафшой…[20]». Он, Герман, согрешил против всех и вся: против еврейства, американского закона, общепринятой морали. Он подло обманывал и Ядвигу, и Машу. Но он не мог иначе. Ядвига при всей своей доброте ему наскучила. Когда он разговаривал с ней, ему казалось, что он говорит сам с собой. С другой стороны, Маша была такой своенравной, упрямой и нервной, что он не мог рассказать ей правду. Он убедил Машу в том, что Ядвига фригидна, и дал клятвенное обещание бросить Ядвигу, если Маша получит развод от Леона Торчинера…
Герман услышал тяжелые шаги, и в двери появился рабби Лемперт. Высокий, широкоплечий великан с красным лицом, пухлыми губами, крючковатым носом и черными, как уголь, глазами навыкате, он с трудом протиснулся в узкий проем двери. На нем были светлый костюм, желтые ботинки, расшитый золотом галстук с булавкой, украшенной жемчужиной. Изо рта торчала длинная сигара. Из-под панамы, украшенной яркой лентой, виднелась черная с проседью шевелюра. Что-то дикое и необузданное было во всем его облике. Каждый раз, глядя на него, Герман удивлялся, как он смог стать рабби. На манжетах сверкали запонки с рубинами, на пальце левой руки блестел перстень с бриллиантом.
Раввин вынул сигару изо рта и, щелкнув по ней, стряхнул горстку пепла, а затем принялся кричать громовым голосом:
— Вы только сейчас сели писать? Уже давно надо было закончить! Я не могу ждать до последнего! Что вы там настрочили? Не надо длинно. Конференция раввинов — это вам не совет старейшин в Цевкуве. Здесь Америка, а не Польша. А что с эссе про Баал-Шема?[21] Мне уже надо его отсылать — дедлайн. Если у вас есть другие занятия или вам лень, дайте знать, я найду кого-то другого. Просто запишу себя на диктофон и дам Ригель расшифровывать.
— Сегодня все будет готово.
— Отдайте, сколько написали, и, в конце концов, сообщите мне ваш адрес. Где вы живете? В аду? У черта на рогах? Я начинаю думать, что у вас есть жена и вы прячетесь где-то вместе с ней.
У Германа пересохло в горле.
— Хорошо бы у меня была жена…
— Хотели бы, была бы. Я вам предлагал хорошую женщину, но вы даже встретиться с ней не захотели. Чего вы боитесь? Никто вас силком под венец не тащит. Какой у вас адрес?
— Правда, не стоит…
— Я требую, чтобы вы мне дали ваш адрес. Вот записная книжка, ну!
Герман дал ему Машин адрес в Бронксе, с трудом выговорив название улицы и номер дома.
— Как зовут вашего земляка?
— Джо Прач.
— Как? Прач? Странное имя. Как оно пишется? Я велю поставить ему телефон, а счета пусть мне присылают.
— Без его согласия нельзя ставить телефон.
— Ему-то чем это помешает?
— Звонки пугают его, напоминают о лагере.
— Даже у новых эмигрантов есть телефоны. Вы поставите телефон у себя. В свою комнату вы можете хоть телеграф провести.
— Я не хочу доставлять ему неудобства.
— Ему от этого будет только лучше. Если он болен, ему нужен врач или не знаю что. Все с ума посходили! Больные люди! Поэтому раз в два года происходит война, поэтому появляются гитлеры. Вы должны быть на работе шесть часов в неделю. Мы так договаривались. Я плачу аренду и вычитаю эти деньги из налогов. Что это за офис, если он все время закрыт? У меня и без вас забот хватает…
Лемперт помолчал немного, а затем спросил:
— Можно задать вам вопрос личного характера?
— О чем вы хотите спросить?
— Вы мужчина, не женщина. Вы еще молоды. Что вы делаете, когда вам нужна женщина?
Герман на мгновение задумался.
— Ничего.
— Ничего, как говорила моя мама, это для отвода глаз. Может, у вас есть любовница, но вы просто не хотите об этом рассказать? Я, конечно, раввин, но при этом цивилизованный человек, а не ханжа. Я хотел стать вам другом, но что-то мне мешает сблизиться с вами. Вы не подпускаете к себе. Я бы мог вам во многом помочь, но вы закрываетесь, как устрица. Что вы скрываете? Что за тайны за семью печатями?
Герман ответил не сразу:
— Переживший то, что я пережил, больше не принадлежит этому миру.
— Красивые фразы, пустые слова. Вы принадлежите этому миру, так же как и все мы. И пусть вы тысячу раз были на волосок от смерти, но пока вы живете, едите и ходите, извините меня, в уборную, вы человек из плоти и крови, как и все мы. Я знаю с десяток узников лагерей и даже таких, которые едва избежали печей. Несмотря на всё это, они прекрасно устроились в Америке: ездят на машинах, занимаются бизнесом. Можно быть на том или на этом свете, но нельзя стоять одной ногой на земле, а другой — на небесах. Вы заигрались, вот и все. Но зачем вам такая роль? По крайней мере, со мной вы могли бы быть откровенны.