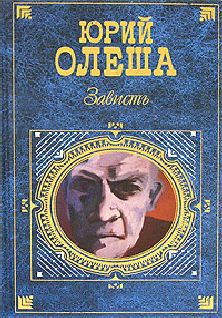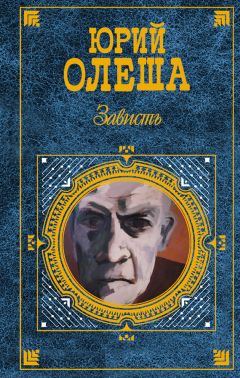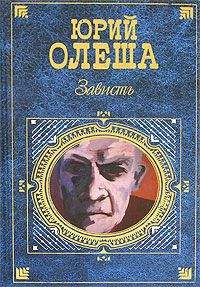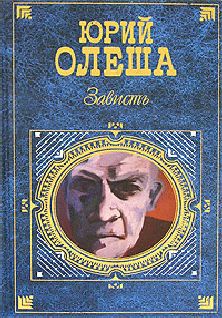В учрежденье шум и тарарам, Все давно смешалось там: Машинистке Лизочке Каплан Подарили барабан…
А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:
НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ
И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет. "Ах!" И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: "Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал - и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление…"
С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.
Маленький человечек в котелке шел впереди меня.
Сначала я подумал: он спешит,- но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще.
Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.
Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.
Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машину для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался.
"Правда, похоже?" - едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову.
Котелок.
Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке - подушка.
Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом.
Я наблюдаю из-за выступа.
Он позвал вазочку:
- Валя!
Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.
- Валя,- сказал он,- я за тобой пришел.
Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз.
- Смотри, я принес… Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. (Он засмеялся.) Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу "Офелию". Не хочешь?
Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице уже упала локтями на подоконник, и локти подломились.
По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути.
- Я прошу тебя, Валя, вернись! Просто; сбеги по лестнице.
Он подождал.
Остановились зеваки.
- Не хочешь? Ну, до свидания.
Он повернулся, поправил котелок и пошел серединой переулка в мою сторону.
- Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!
Он ускорил шаги, побежал. Мимо меня. Я увидел: он не молод. Он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек бежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного.
Окно опустело.
Она бросилась в погоню. Она добежала до угла,- там кончалось безлюдье переулка; она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, текла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав:
- Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.
Вечером я корректирую: "…Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы - на изготовление съедобных жиров: сала, маргарина, искусственного масла, и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действуюших очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий…"
Он говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:
- Это не жестокость.
Я прислушиваюсь.
- Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю.
Это не жестокость, Нет, Hет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? - Унижается? Что? Ходит под окнами? - Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю.- Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала.- Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову. Офелия? Какая? А… Плюнь. Офелия - это бред.- Как хочешь. Но я говорю: ты поступаешь правильно.- Да, да.- Что? Подушка? Неужели? (Хохот.) Воображаю. Как? Как? На которой ты спала? Подумаешь.- Что? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения.Что? - Да-да! (Тут он замолчал и долго слушал;- Я сидел на угольях. Он разразился хохотом.) Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? Это, наверное, какой-побудь алкоголик из его компании.
Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подножного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.
Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.
- Здорово? - вопрошал он, обращаясь ко всем сразу.- Нет, вы посмотрите… Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните…
Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.
- Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесете,- пусть он посмотрит и звонит мне.
Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.
- Да, да,- ревел он,- да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины, Большая - победа… Нет, не полтинник, чудак вы… Полтинник! Хо хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица!
Он уехал,
Смеющееся лицо - румяный горшок - качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. "Колбаса! - звучит во многих кабинетах.- Именно та… я же говорил вам. Анекдот!.." Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:
- Несут ее вам! Соломон, увидите! Лопнете…
- Еще не принесли? Хо-хо, Соломон… вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.
Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.
Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к косу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала; обладатель руки прислушивался к ощущениям.