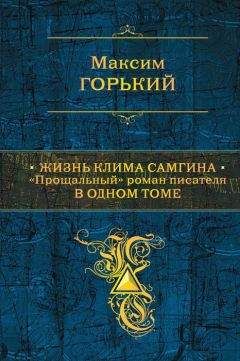«Я настраиваюсь лирически», – отметил он и усмехнулся.
На дворе его встретил Безбедов с охотничьей двустволкой в руках, ошеломленно посмотрел на него и захрипел:
– Смеетесь? Вам – хорошо, а меня вот сейчас Муромская загоняла в союз Михаила Архангела – Россию спасать, – к чорту! Михаил Архангел этот – патрон полиции, – вы знаете? А меня полиция то и дело штрафует – за голубей, санитарию и вообще.
Он стучал прикладом ружья по ступеньке крыльца, не пропуская Самгина в дом, встряхивая головой, похожей на помело, и сипел:
– Если б не тетка – плюнул бы я в ладонь этой чортовой кукле с ее политикой, союзами, архангелами...
Он был такой же, как всегда, но не возбуждал у Самгина неприязни.
– На кого это вы вооружились?
– Крыса. Может быть – хорек, – сказал Безбедов, направляясь на чердак.
В комнатах Клима встретила прохладная и как бы ожидающая его тишина. Даже мух не было.
«Это – потому, что я здесь не ем», – сообразил он. Постоял среди приемной, посмотрел, как солнечная лента освещает пыльные его ботинки, и решил:
«Надо поговорить с Безбедовым о Марине, непременно».
Осторожно, не делая резких движений, Самгин вынул портсигар, папиросу, – спичек в кармане не оказалось, спички лежали на столе. Тогда он, спрятав портсигар, бросил папиросу на стол и сунул руки в карманы. Стоять среди комнаты было глупо, но двигаться не хотелось, – он стоял и прислушивался к непривычному ощущению грустной, но приятной легкости.
«Чувствовал ли я себя когда-нибудь так странно? Как будто – нет».
Затем он вспомнил, что нечто приблизительно похожее он испытывал, проиграв на суде неприятное гражданское дело, порученное ему патроном. Ничего более похожего – не нашлось. Он подошел к столу, взял папиросу и лег на диван, ожидая, когда старуха Фелициата позовет пить чай.
Недели две он прожил в непривычном состоянии благодушного покоя, и минутами это не только удивляло его, но даже внушало тревожную мысль: где-то скопляются неприятности. За утренним чаем небрежно просматривал две местные газеты, – одна из них каждый день истерически кричала о засилии инородцев, безумии левых партий и приглашала Россию «вернуться к национальной правде», другая, ссылаясь на статьи первой, уговаривала «беречь Думу – храм свободного, разумного слова» и доказывала, что «левые» в Думе говорят неразумно. В конечном итоге обе газеты вызывали у Самгина одинаковое впечатление: очень тусклое и скучное эхо прессы столиц; живя подражательной жизнью, обе они не волнуют устойчивую жизнь благополучного города. А таких городов – много, больше полусотни. По воскресеньям в либеральной газете печатались «Впечатления провинциала», подписанные Идрон. Самгин верил глазам Ивана Дронова и читал его бойкие фельетоны так же внимательно, как выслушивал на суде показания свидетелей, не заинтересованных в процессе ничем иным, кроме желания подчеркнуть свой ум, свою наблюдательность. Дроков одинаково иронически относился к правым и левым и подчеркивал «реализм» политики конституционалистов-демократов.
«Дронов не может не чувствовать, где сила», – подумал он, усмехаясь.
А вообще Самгин незаметно для себя стал воспринимать факты политической жизни очень странно: ему казалось, что все, о чем тревожно пишут газеты, совершалось уже в прошлом. Он не пытался объяснить себе, почему это так? Марина поколебала это его настроение. Как-то, после делового разговора, она сказала:
– Слушай-ко, нелюдимость твоя замечена, и, пожалуй, это вредно тебе. Считают тебя эдаким, знаешь, таинственным деятелем, который – не то чтобы прячется, а – выжидает момента. Ходит слушок, что за тобой числятся некоторые подвиги, будто руководил ты Московским восстанием и продолжаешь чем-то руководить.
Это было неожиданно и неприятно. Самгин, усмехаясь, сказал:
– Так создаются герои!
А она, играя перчатками, продолжала:
– Ты бы мизантропию-то свою разбавил чем-нибудь, Тимон Афинский! Смотри, – жандармы отлично помнят прошлое, а – как они успокоят, ежели не искоренят? Следовало бы тебе чаще выходить на люди.
Говорила она шутливо. Самгин спросил:
– Тебя это беспокоит? Скомпрометирую? Она удивленно подняла брови:
– Меня? Разве я за настроения моего поверенного ответственна? Я говорю в твоих интересах. И – вот что, – сказала она, натягивая перчатку на пальцы левой руки, – ты возьми-ка себе Мишку, он тебе и комнаты приберет и книги будет в порядке держать, – не хочешь обедать с Валентином – обед подаст. Да заставил бы его и бумаги переписывать, – почерк у него – хороший. А мальчишка он – скромный, мечтатель только.
Величественно выплыла из комнаты, и на дворе зазвучал ее сочный голос:
– Валентин! Велел бы двор-то подмести, что за безобразие! Муромская жалуется на тебя: глаз не кажешь. Что-о? Скажите, пожалуйста! Нет, уж ты, прошу, без капризов. Да, да!.. Своим умом? Ты? Ох, не шути...
Ушла, сильно хлопнув калиткой.
«Племянника – не любит, – отметил Самгин. – Впрочем, он племянник ее мужа». И, подумав, Самгин сказал себе:
«А ведь никто, никогда не относился к тебе, друг мой, так заботливо, а?»
И он простил Марине то, что она ему напомнила о прошлом. Заботами ее у него начиналась практика, он уже имел несколько гражданских исков и платную защиту по делу о поджоге. Но через несколько дней прошлое снова и очень бесцеремонно напомнило о себе. Поздно вечером к нему явились люди, которых он встретил весьма любезно, полагая, что это – клиенты: рослая, краснощекая женщина, с темными глазами на грубоватом лице, одетая просто и солидно, а с нею – пожилой лысоватый человек, с остатками черных, жестких кудрей на остром черепе, угрюмый, в дымчатых очках, в измятом и грязном пальто из парусины. Самгин определил:
«Хозяйка и служащий. Вероятно – уголовное дело». Но женщина, присев к столу, вынула из кармана юбки коробку папирос и сказала вполголоса:
– Моя фамилия – Муравьева, иначе – Паша. Татьяна Гогина сообщила мне, что, в случае нужды, я могу обратиться к вам.
Самгин собирался зажечь спичку, но не зажег, а, щелкнув ногтем по коробке, подал коробку женщине, спрашивая:
– Чем могу служить?
Темные глаза женщины смотрели на него в упор, – ее спутник сел на стул у стены, в сумраке, и там невнятно прорычал что-то.
«Кажется, я его когда-то видел», – подумал Самгин.
Не торопясь Муравьева закурила папиросу от своей спички и сказала, что меньшевики, в будущее воскресенье, устраивают в ремесленной управе доклад о текущем моменте.
– У нас некому выступить против них; товарищ, который мог бы сделать это достаточно солидно, – заболел.
Говорила она требовательно, высоким надорванным голосом, прямой взгляд ее был неприятен. Самгин сказал:
– Лицо, названное вами, ничего не сообщало мне о Муравьевой, и вообще я с этим лицом не состою в переписке.
– Странно, – сказала женщина, пожимая плечами. а спутник ее угрюмо буркнул:
– Идем к тому.
– На митингах я никогда не выступал, – добавил Самгин, испытывая удовольствие говорить правду.
– Не надо, идем к тому, – повторил мужчина, вставая. Самгину снова показалось, что он где-то видел его, слышал этот угрюмый, тяжелый голос. Женщина тоже встала и, сунув папиросу в пепельницу, сказала громко:
– Вот и попробовали бы.
Вставая, она задела стол, задребезжал абажур лампы. Самгин придержал его ладонью, а женщина небрежно сказала:
– Извините, – и ушла, не простясь.
«Со спичками у меня вышло невежливо, – думал Самгин. – Человека этого я встречали.
Вздохнув, он вытряхнул окурок папиросы в корзину для бумаг. Дня через два он вышел «на люди», – сидел в зале клуба, где пела Дуняша, и слушал доклад местного адвоката Декаполитова, председателя «Кружка поощрения кустарных ремесел». На эстраде, заслоняя красный портрет царя Александра Второго, одиноко стоял широкоплечий, но плоский, костистый человек с длинными руками, седовласый, но чернобровый, остриженный ежиком, с толстыми усами под горбатым носом и острой французской бородкой. Он казался загримированным под кого-то, отмеченного историей, а брови нарочно выкрасил черной краской, как бы для того, чтоб люди не думали, будто он дорожит своим сходством с историческим человеком. Разговаривал он приятным, гибким баритоном, бросая в сумрак скупо освещенного зала неторопливые, скучные слова:
– Ситуация данных дней требует, чтоб личность категорически определила: чего она хочет?
– Чтобы Столыпина отправили к чертовой матери, – проворчал соседу толстый человек впереди Самгина, – сосед дремотно ответил:
– Отруба – ловкий ход.
В зале рассеянно сидели на всех рядах стульев человек шестьдесят.
Летний дождь шумно плескал в стекла окон, трещал и бухал гром, сверкали молнии, освещая стеклянную пыль дождя; в пыли подпрыгивала черная крыша с двумя гончарными трубами, – трубы были похожи на воздетые к небу руки без кистей. Неприятно теплая духота наполняла зал, за спиною Самгина у кого-то урчало в животе, сосед с левой руки после каждого удара грома крестился и шептал Самгину, задевая его локтем: