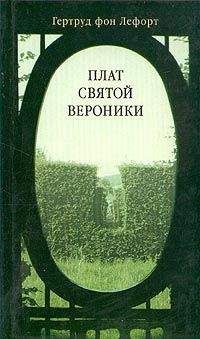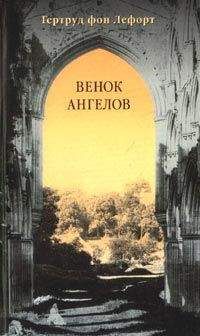Жаннет и тетушка Эдель между тем куда-то бесшумно уходили и так же бесшумно возвращались. Они приносили венки, зажигали время от времени новую свечу, иногда Жаннет проносила мимо ведерко со льдом – все это скользило мимо меня как нечто непостижимое. Жаннет никогда не покидала комнату, не помолившись рядом с покойной. Тетушка Эдель не молилась, однажды я будто сквозь сон слышала, как она говорила Жаннет, что это едва ли понравилось бы усопшей. При этих словах я горько разрыдалась. Они напомнили мне о боли, причиненной мной бабушке незадолго до ее смерти. Последнее выражение ее лица, как и его обычное выражение в последние дни, являло собой почти полную противоположность тому, чем она всегда была, – даже печать мира, налагаемая смертью, не смогла загладить след глубокого разочарования и отречения, которыми завершилась ее жизнь, она лишь оттенила их неумолимой истинностью. Казалось даже, будто это общее разочарование было приметой всей ее жизни – так властно воцарилось оно в ее померкших чертах. Стоило мне поднять глаза к этому лику, как я словно тотчас же узнавала и ту линию боли, которую сама в него врезала.
Тетушка Эдель время от времени пыталась увести меня из комнаты, где лежала бабушка. Она по-своему желала мне добра. Это отвечало ее тогдашнему плоскому взгляду на вещи и все более настойчивому стремлению по возможности облегчить и ослабить страдания себе и другим. Я смутно припоминаю, что она несколько раз говорила мне, сколько часов я уже провела без сна и пищи. Смысл ее слов не доходил до моего сознания, ведь для меня время тогда вообще остановилось.
Жаннет не пыталась увести меня, она лишь изредка тихонько пожимала мне руку. Иногда она приносила мне глоток вина, и я охотно принимала его. При этом мы почти не говорили, так как Жаннет знала, что я не пойму ее. И все же именно те немногие слова, которые я тогда услышала от нее, и стали моим единственным отчетливым воспоминанием об этих минутах. Однажды, когда она замешкалась с очередным ведерком льда немного дольше обычного, – кажется, была уже ночь, – я попросила ее закрыть окно на площадке перед комнатой, из-за которого бабушка всегда так волновалась, когда мы бодрствовали перед дверью Энцио. (Время от времени я в своем полуобморочном состоянии забывала о том, что покойной уже не могут помешать те вещи, которые огорчали ее при жизни.) Жаннет тихо покачала головой, сочувственно глядя на меня. Во мне вдруг блеснуло, как молния, то, что она не высказала, и я почувствовала невыразимый ужас. Она ласково коснулась рукой моего лба.
– И все-таки она в руках Божьих, дитя мое… – произнесла она.
В другой раз, когда я безутешно плакала, она склонилась ко мне и сказала:
– Ma petite, страдание – это тоже всего лишь любовь. Потерпи немного, и ты узнаешь это.
Не сохранилось у меня ясных воспоминаний и о похоронах. Мне запомнилось ощущение, как будто мы долго шли через целые леса кипарисов, густые и дремучие, которые затем наконец сомкнулись над могилой, словно огромные черные языки пламени. Мне рассказывали, что похороны бабушки прошли так же незаметно, как и ее уход из жизни. Она, столь любимая и восхваляемая всеми, проделала свой последний земной путь очень одиноко. Причина заключалась в том, что тетушка, которая к тому времени уже начала проявлять красноречивые признаки своей невероятной бережливости, даже самых близких друзей оповестила о бабушкиной смерти не телеграммами, а письмами. Поскольку покойницу не провожал священник, кто-то из них мог бы произнести у открытой могилы несколько теплых слов любви и благодарности усопшей. Но их не было, и гроб безмолвно опустили в священную римскую землю. Даже цветы, подаренные покойнице, казались на ее большом гробу жалкими и малочисленными; роскошные пожертвования ее друзей запоздали, и, в то время как в комнате бабушки еще стояли огромные увядшие букеты, которыми мы окружали ее, живую, до последней минуты, на кладбище покойнице пришлось довольствоваться почти голым могильным холмиком. В своем горе я не заметила и того, что гроб, как и все остальные атрибуты скорбного акта погребения, был самым простым и грубым – как будто бабушке суждено было до самого конца олицетворять трагичный финал всякого земного блеска. Лишь один ее любимый Рим, казалось, не сомневался в том, что даже здесь, на кладбище, где все равны, ей полагается маленькая, одинокая почесть: могилу ее осеняют – а теперь уже, верно, давно пустили в нее свои корни – самые высокие и красивые кипарисы на всем кладбище Порта Сан-Паоло…
Лишь после похорон моя боль вырвалась на волю во всей своей мощи: я страдала и не желала ничего, кроме страдания! К ужасному зрелищу смерти и к той пустоте, которую она оставила в моем сердце, теперь присоединилась постоянно растущей мукой загадка моего отчуждения от любимой, незабвенной бабушки в последние дни. Я не находила утешения: эта загадка казалась мне неким страшным обвинением. Я по-прежнему с той же непоколебимой твердостью верила, что в ту минуту, которая разлучила нас внутренне, я покорилась могучему, всесильному зову, но впечатление, произведенное на меня могуществом смерти, было так сильно, что заглушало его. Эта двойственность словно растворяла мое сознание и тем самым обретала сходство со смертью. Лишь время от времени при виде Жаннет мне на мгновение казалось, будто я вот-вот вновь найду то необъяснимое утешение, которое тогда, сразу же после разговора с бабушкой, расправило мне душу.
Я тогда совершенно по-новому ощущала близость Жаннет, и это чувство не имело никакого отношения к чувству привязанности к ней, с которым я выросла. Оно похоже было на очень отчетливую, но почти безличную симпатию и любовь, которую я позже иногда испытывала ко всем окружающим в церкви во время причастия.
К сожалению, Жаннет уже на следующий день после похорон, получив срочную телеграмму, отправилась в Витербо, где ее супруг получил место и временное прибежище, и я впервые в жизни на целый день осталась одна с тетушкой Эдельгарт.
Она воспользовалась случаем, чтобы обстоятельно поговорить со мной о нашем положении, ведь она теперь была умной и осмотрительной дамой, каких немало. Она очень серьезно думала и о моем будущем, то есть прежде всего о моем наследстве. Кроме того, она старалась вырвать меня из недосягаемости моего горя, направив мое внимание на земной, реальный предмет. На ней самой смерть бабушки странным образом почти не отразилась, хотя она не щадила себя во время ухода за ней. Она теперь обладала своего рода духовным рецептом, по которому с помощью довольно сложной мыслительной процедуры держала вещи на определенном расстоянии и тем самым обретала над ними превосходство.
И вот она выложила передо мной наши расходные книги за последний год и счета нашего банка и, не обращая внимания на мое сопротивление, с ласковой настойчивостью заставила меня ознакомиться с ними. Она сказала, что я для этого уже достаточно взрослый человек и ей очень важно, чтобы наши дальнейшие отношения основывались на моем доверии, ведь до тех пор, пока не приедет опекун, вести мои дела придется именно ей. И что она приветствует назначение нового опекуна, так как опекунство – дело очень сложное и ответственное и она с большой охотой сложила бы с себя эту ответственность.
Я покорно проделала все, что от меня требовалось, потому что это мне и в самом деле было совершенно безразлично. Лишь когда тетушка обратила мое внимание на то, что нам очень скоро придется продать кое-что из бабушкиных сокровищ, чтобы погасить долги, возникшие в связи с ее смертью, я горько расплакалась. Сегодня я в этом искренне раскаиваюсь, ибо мой опекун позже горячо подтвердил правоту тетушки и высоко оценил ее осмотрительность. И я не могу сейчас не отдать ей должное и не сказать о том, что она ни единым словом не упрекнула свою мать, широкий стиль жизни которой еще более осложнил наше и без того нелегкое положение.
И вот тетушка старалась утешить меня: у меня была возможность заметить, как легко и приятно с ней стало общаться даже по самым болезненным поводам. Кроме того, она заставила меня задуматься о том, как неистово опять проявилась моя сущность. По ее словам, мне следовало бы всегда помнить, что как раз у меня эта боль во всей невыносимости ее сиюминутной силы долго не продлится, ведь я по себе должна была бы знать эти «неистовства», которые скоро проходят. Однако слова ее звучали не так грубо и прямолинейно, как они теперь выглядят на бумаге, она выражала все очень тонко и доброжелательно, ибо ее деликатность благородной дамы в то время довольно успешно заменяла ей любовь. Она и не подозревала, какое смятение произвела в моей душе именно эта мысль, потому что она смутно коснулась ужасной загадки моей внутренней неопределенности. В конце концов она заметила, что так ей не достичь своей цели, и, тонко используя мое настроение, предложила вдвоем съездить на кладбище.